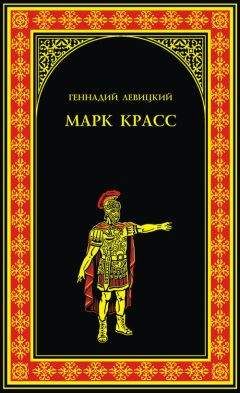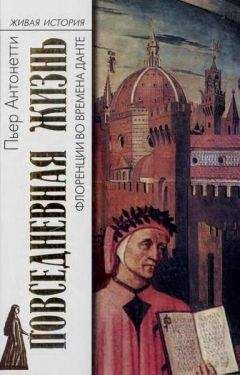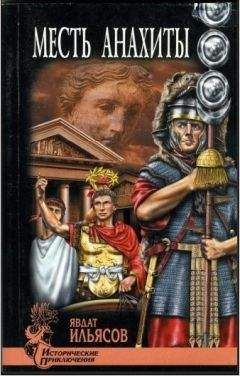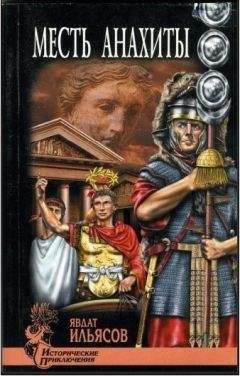Левицкий Михайлович - МАРК КРАСС
– Если это доставит тебе удовольствие, то давай, центурион, пощупай наши бока, – раздраженно проворчал Марцелл.
Пройдя через унизительную процедуру и проследовав за легионером до покоев хозяина, сенаторы, наконец, оказались наедине с Цицероном.
– Не слишком ли позднее время вы выбрали для визита? – вопросом вместо приветствия встретил гостей знаменитый оратор.
– Дело не терпит отлагательств, – с несвойственным ему волнением ответил Красс. – В Риме готовится новый заговор, Катилина задумал уничтожить тебя, консул, и присвоить твою власть.
– Откуда такие сведения?
Вопрос Цицерона привел поздних гостей в замешательство. Некоторое время сенаторы хранили молчание, пряча глаза от испытующего взгляда консула. Наконец Метелл первым нарушил затянувшуюся паузу:
– Почтенный консул, я не собираюсь скрывать, что нас далеко не все устраивало в государственной жизни Рима…
– Прекрасно понимаю тебя, Сципион, – перебил гостя Цицерон. – Твой предок победил Ганнибала, и ты желаешь повторить его подвиг, но люди ничтожные и недостойные препятствуют этому.
– Это не совсем так. И все же, как граждане, занимающие определенное положение в Риме, мы должны иметь представление обо всех областях жизни нашего государства и по возможности заботиться о его благе…
– О благе государства или о своем собственном? – вновь съязвил Цицерон.
Метелл посчитал недостойным для себя отвечать на выпад консула и невозмутимо продолжил:
– Случай свел нас с Катилиной, и мы приняли приглашение посетить его дом. Среди его гостей было много влиятельных людей, но все же лично мне и, думаю, Крассу и Марцеллу тоже их общество пришлось не по нраву. Впоследствии мы из любопытства встречались с Катилиной и его друзьями, однако это дало повод Катилине считать нас своими сторонниками. Вчера в доверительной беседе речь зашла о тебе, консул. Подогретый вином Катилина в гневе проронил, что завтра Рим навсегда избавится от Цицерона. Мы подозреваем худшее, но ни в коей мере не стремимся к такому способу решения своих проблем и не разделяем планов этого негодяя.
– Будем считать, что ты оправдался, – покровительственно произнес Цицерон.
– Ни у меня, ни у моих товарищей нет нужды оправдываться ни перед кем. Мы пришли предупредить тебя, консул, о грозящей опасности. И это единственная причина, почему мы сейчас стоим перед тобой.
– Я не могу отнести вас к числу своих друзей: насколько я знаю, Цицерон не устраивает вас как консул. Так почему бы вам не подождать и не посмотреть, кто победит: Цицерон или Катилина. Думаю, Марк Красс с удовольствием бросил бы горсть благовоний на мой погребальный костер. Сомневаюсь, что он забыл, как я выступил в поддержку Гнея Помпея, успехи которого не дают покоя Марку Лицинию.
– Буду откровенен: я действительно не являюсь твоим поклонником, Марк Туллий; но мой сын Публий без ума от твоих речей и не простил бы мне преступного молчания, приведшего тебя к гибели, – невозмутимо ответил Красс.
– Значит, только из-за меня вы и пришли?
– Нет, Марк Туллий. Просто мы не хотим крови сограждан. Своих целей мы привыкли добиваться влиянием, умом, в крайнем случае – деньгами, но никак не мечом и, тем более, не предательским кинжалом.
– Вы вовремя сделали свой выбор. Сейчас в моем доме находится Фульвия, и ваши сведения только подтвердили то, что мне рассказала о заговоре эта женщина. Кроме того, от нее я узнал о ваших встречах с Катилиной.
– Кто такая Фульвия? – поинтересовался Красс.
– Вы неоднократно видели ее во время обедов у Катилины – прекрасная наложница-гречанка, которая разносила вино и предлагала в качестве закуски свое тело.
– Меня не интересуют рабыни, – Красс прервал Цицерона, излагавшего неприятные для него подробности.
– Прости, Марк, я забыл, что ты предпочитаешь целомудренных весталок. Однако Фульвия помнит тебя прекрасно. Впрочем, можешь не беспокоиться, Красс, а также вы, Марцелл и Метелл; о ваших визитах к Катилине никто не узнает. Я не так кровожаден, как ваш друг.
– Благодарим тебя, великодушный Цицерон, – процедил сквозь зубы Красс. – Надеюсь, мы можем уйти? Или у тебя на наш счет имеются другие планы?
– Подождите, сенаторы. Я был с вами немного резок; на то имелись свои причины. Но я не хочу, чтобы мы расстались врагами. Примите мою искреннюю благодарность за визит и сообщенные вами важные сведения. Вы возвратили мне веру в порядочность и благородство римлян. Пока существуют такие граждане, как вы, наше государство не постигнет участь Карфагена.
Последние слова консула вызвали такое изумление у гостей, что они застыли на полпути к двери. Если бы Цицерон сейчас вызвал стражу и приказал бросить их в тюрьму, они удивились бы гораздо меньше.
– Мне было бы приятно побеседовать с вами за амфорой вина, но я жду других гостей, а вы можете их спугнуть. Заходите в любое время – двери моего дома всегда открыты для вас. – С последними словами Цицерон крепко пожал руки Крассу, Метеллу и Марцеллу.
На рассвете в храме Юпитера Статора собрался римский сенат. Несмотря на ранний час, пришли почти все, кто носил почетное звание сенатора и находился в данный момент в городе.
Первым взошел на ростры Цицерон и в самых мрачных тонах начал описывать раскрытый им заговор. Вдруг его вдохновенную речь прервал скрип массивной двери храма. Опоздавшим был никто иной, как Луций Сергий Катилина. Гордо прошествовал он мимо изумленных сенаторов и занял свободную скамью в противоположном конце зала.
– Я готов слушать тебя, Марк Туллий, продолжай, – после того, как удобно расположился на месте, бросил Катилина умолкнувшему на время его перемещений по залу оратору.
– Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты в бешенстве своем будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине, ни стража, обходящая город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных людей здесь, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания сената, ни лица и взоры всех присутствующих? Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что делал ты последней, а что предыдущей ночью, где ты был, кого созывал, какое решение принял?
О времена! О нравы! Сенат понимает, консул видит, а этот человек еще жив. Да разве только жив? Нет, даже приходит в сенат, участвует в обсуждении государственных дел, намечает и указывает своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит, а мы, храбрые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его оружия.
Есть ли позорное клеймо, которым твоя семейная жизнь не была бы отмечена? Каким только бесстыдством не ославил ты себя в частной жизни! Но теперь отчизна, наша общая мать, тебя ненавидит, боится и уверена, что ты уже давно не помышляешь ни о чем другом, кроме отцеубийства.
И ты не склонишься перед ее решением, не подчинишься ее приговору, не испугаешься ее могущества? Она обращается к тебе, Катилина, и своим молчанием словно говорит: "Не было в течение ряда лет ни одного преступления, которого не совершил ты, не было гнусности, совершенной без твоего участия; ты один безнаказанно и беспрепятственно убивал многих граждан, притеснял и разорял наших союзников; ты оказался в силах не только пренебрегать законами и правосудием, но также уничтожать их и попирать. Прежние твои преступления, хотя они и были невыносимы, я все же терпела, как могла; но теперь то, что я вся охвачена страхом из-за тебя одного, что при малейшем лязге оружия я испытываю страх перед Катилиной, что каждый замысел, направленный против меня, кажется мне порожденным твоей преступностью, – все это нестерпимо. Поэтому удались и избавь меня от этого страха; если он справедлив – чтобы мне не погибнуть; если он ложен – чтобы мне, наконец, перестать бояться". Если бы отчизна говорила с тобой так, неужели ты не должен был бы повиноваться ей, даже если бы она не могла применить силу?
Обвинительная речь консула звучала в полной тишине. Не осмелился нарушить ее и Катилина, ибо перебить речь консула на заседании сената считалось едва ли не преступлением. Но как только Цицерон сделал паузу, Катилина поднялся со своего места. Видимо, он хотел оправдаться, но своим движением вызвал лишь бурю возмущения своих коллег. Сенаторы, которые сидели на одной с ним скамье, поспешили отодвинуться или пересесть на другие места. Среди такого топота и шума бесполезно было пытаться что-либо сказать. Катилина в бешенстве повернулся к сенату и голосом, извергающим громы, словно Марс свои стрелы, крикнул:
– Меня оклеветали и лишили права на защиту; так я затушу развалинами пожар, который хочет меня уничтожить!