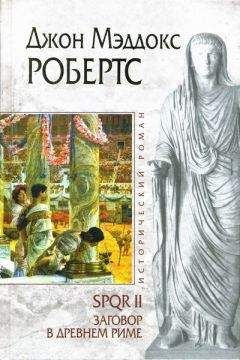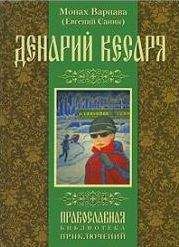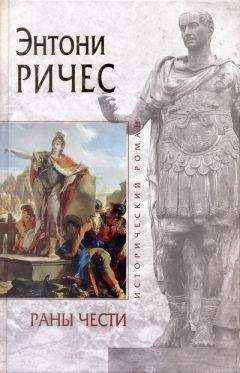Анатолий Дроздов - Денарий кесаря
— Все боятся смерти, — спокойно ответил Пилат. — Но храбрый солдат, видя ее, не бросает оружие.
— Солдату суждено пасть от руки врага или быть казненным за трусость, — продолжил Козма. — Выбор небогатый.
— У кого он лучше? — пожал плечами Пилат.
— У тех, кто действительно не боится.
— Такие есть?
— Появились.
— Кто они?
— Люди Божьи.
— Понимаю! — усмехнулся прокуратор. — Последователи сына Иеговы. Боюсь разочаровать тебя, лекарь, в Иудее чуть ли не каждый год появляется новый пророк, «машиах», как они их называют. Появляется много последователей, которые славят пророка. Они готовы растерзать любого, кто усомнится в новом учении. Проходит немного, и люди забывают своего «машиаха».
— Он не «машиах».
— А кто же?
— Бог и сын бога.
— Он представил тому убедительные доказательства?
— Представит через несколько дней.
— И что это будет?
— Воскресение из мертвых.
— Так он умер?
— Нет еще.
— Значит, умрет. Странно для бессмертного бога, не находишь?
— Его родила земная женщина и внешне он такой же человек, как и мы. Только мы не воскресаем после смерти. Вернее, не воскресали до сих пор.
— Ты лжешь! — возразил Пилат. — Я знаю историю. Земные женщины часто рожали детей от богов, после смерти отцы забирали их на небо. Вспомни Геракла!
— Я тоже знаю историю, прокуратор! Боги забирали своих детей, но остальных людей ждал Аид, Тартар или Гадес. Место невеселое.
— Твой бог предлагает лучшее?
— Мой бог дает воскресение из мертвых.
— Означает ли это, что я повешу тебя, а ты оживешь?
— Нет! Человеческое тело умрет и истлеет. Душа останется жива. В царстве божьем она получит новое тело.
— Что это за царство?
— Там правит бог. Там нет голода, болезней, войн и убийств. Там не покупают и не продают людей. Там равны все: те, кто был на земле правителем и последним рабом. Там высшая справедливость: если раб был благочестив в земной жизни, то он сядет ближе к Господу, чем порочный правитель.
— Это вредная вера! — сказал Пилат. — Рим будет бороться с ней.
— Рим проиграет эту войну.
— Рим может проиграть сражение, но не войну! — усмехнулся Пилат. — Немало царей и народов убедились в этом.
— В этой войне сражаются не мечом, а словом.
— Словом не победить легионы!
— Объятые страхом легионы не дорого стоят.
— Кого им бояться?
— В Риме боятся все. Провинившийся солдат едва не обмочился от страха, стоило тебе позвать его. А ведь знает, что жить ему осталось недолго! Ваши души объяты страхом. Легионер боится центуриона, центурион боится трибуна, трибун — легата. Легат дрожит перед консулом, а консул — перед императором. Всесильный император в свою очередь опасается убийц, ему мерещатся заговоры. Появление неправильной монеты расценивается, как покушение на власть императора, в дальнюю Иудею направлен сенатор с заданием ревностно расследовать этот пустяк. Сенатор понимает ничтожность поручения, но не решается возразить, поскольку боится за свою жизнь и жизнь сына. Какой смысл везти меня в Рим? Но сенатор повезет, поскольку опасается, что ему не поверят, а, не поверив, накажут. А ты, прокуратор? Кто может воспротивиться тебе в Иудее? Ты свободен поступать, как заблагорассудится, но ты бежишь от этой свободы, поскольку боишься. Первосвященники могут написать на тебя донос, и ты осуждаешь на казнь невинных, хотя не хочешь делать этого. И еще не одного осудишь… Что стоит величие Рима, если самый могущественный человек в империи дрожит от страха, как последний раб? Нищий, собирающий подаяние у городских ворот, счастливее императора, потому что жизнь его никому не нужна. Что значат легионы, золото, почести, когда ночью ты пробуждаешься от ужаса и, дрожа, высматриваешь, не крадутся ли к твоему ложу убийцы?!.
Я страхом смотрел на прокуратора: тяжелые желваки катались под загорелой кожей его лица, а лоб, казалось, собрался в одну сплошную морщину. Я боялся, что Козму зарежут прямо здесь, не дав закончить. Но этого не произошло. Когда арестованный умолк, прокуратор сделал знак центуриону, и его увели…
Суд над Акимом не затянулся. Отец произнес обвинение, прокуратор спросил подсудимого, что он может сказать в оправдание.
— Я не собирался убивать мальчишку! — буркнул Аким.
— Этот мальчишка — римский центурион! — возразил Пилат.
— Должность не делает его старше… Он не защищался, а я не убиваю безоружных.
— Ты хочешь сказать: если б центурион был в полном облачении и обнажил меч, ты убил бы его?
— Непременно! Не люблю предателей.
— Сенатор считает предателем тебя. Ты клялся защищать его и сына.
— Сенатор запамятовал: я обещал защищать его на пути в Иудею. На земле провинции обещание утратило силу.
Пилат посмотрел на отца. Тот, подумав, кивнул.
— Обвинение в клятвопреступлении снимается, — сказал прокуратор и сделал знак секретарю записывать. — Но это не имеет значения. Подсудимый в суде подтвердил, что собирался убить римского центуриона. Преступление карается смертью. Я приговариваю его!
Лицо Акима не выразило страха.
— Меня повесят с разбойниками, которые сидят в тюрьме? — спросил он.
— Они иудеи, их повесят в Иерусалиме, — пояснил Пилат. — Здесь этому придают значение: иудею важно быть похороненным в своей земле — чем ближе к храму, тем лучше. Тебя отведут в Кесарию. Там решим. Не думаю, что это будет крест. Сенатор сказал: в своей стране ты командовал когортой. Я солдат и считаю: ты заслужил быструю смерть.
Аким удовлетворенно кивнул и посмотрел на конвой.
— Погоди! — остановил его прокуратор. — Ответь, ты тоже поклоняешься сыну Иеговы?
— Да!
— Я был прав: опасная вера!
— У тебя, прокуратор, сложилось неправильное впечатление… — хотел возразить Аким, но Пилат прервал его:
— Не тебе судить о моих впечатлениях!..
Вечером я рассказал о суде Валерии. Она выслушала, не перебивая и вздыхая время от времени. Я думал, что она жалеет меня, но Валерия думала о другом.
— Твой отец не получит награду от консула? — спросила она, когда я умолк.
— Думаю, нет. Сеян велел раскрыть заговор, а его не было.
— Отец не останется в сенате и вернется в Лугдунум?
— Думаю, так.
— Лугдунум больше Кесарии?
— Меньше. Но гораздо красивее! Там такая река! А лес!..
— Я хотела жить с тобой в Риме, — перебила меня Валерия. — Но если не получится, пусть Лугдунум! Мы побываем в Риме?
— Консулу надо представить отчет о розыске.
— Со временем ты получишь наследство, станешь сенатором, и мы сможем приехать в Рим?
— Конечно!
— Я согласна! — повторила Валерия. — Когда вернется Грат, я скажу ему, что развожусь.
— Он не отпустит тебя.
— Я свободная римлянка! Рабыню могут не отпустить; римлянка разводится с мужем, если желает. Не забывай, кто мой дядя! Он недоволен Гратом: его родственники потеряли влияние в Риме, а отец твой — сенатор. Пилат будет рад породниться с Назонами.
— Осталось получить согласие отца, — вздохнул я.
— Я не нравлюсь ему?
— Ты не можешь не нравиться. Беда в том, что я слишком молод. Отец женился в тридцать, будучи префектом. Я всего лишь центурион…
— Пусть сделает тебя трибуном!
— Это не в его власти…
— Все можно, если захотеть! — решительно возразила Валерия. — Чем Грат лучше тебя? Если отец поговорит с… ты мне говорил о нем… Юнием, и дело решится. Или ты передумал жениться?
— Нет! — вскричал я.
— Только попробуй передумать! — нахмурилась Валерия и больно ущипнула меня. — Я без тебя не могу, Руф! Лежу здесь днями, смотрю на клепсидру и считаю часы до твоего прихода. Придумываю, как мы в этот раз станем ласкать друг друга, от этих мыслей становится сладко-сладко. Потом приходишь ты, и все выходит куда лучше, чем мечталось… Ночь пролетает так быстро! Я не хочу, чтоб ты уходил! Если б могла, то съела! — она шутливо куснула меня за ухо. — Всего-всего! Тогда бы остался со мной навсегда! — она засмеялась…
В тот вечер мы больше говорили, чем ласкали друг друга. Мы обсуждали, где станем жить по приезду в Лугдунум, оставаться ли нам в доме отца или купить свой? Валерия хотела жить отдельно, я убеждал, что родительский дом велик, нам в нем будет удобно. Валерия капризничала, говоря, что не уживется под одной крышей с женой префекта. Я целовал ее, уверяя, что отец никогда не женится и с радостью отдаст управление домом в руки невестки. Она такая хорошая, ее сразу полюбят все — даже рабы. Мы будем жить в любви, и у нас родится пятеро детей. Валерия, подумав, сказала, что пятеро много; трое будет в самый раз.
— Они все будут Руфы, — задумчиво сказала она. — Я хочу, чтоб они походили на тебя. Но вдруг кто унаследует внешность деда? Рыжий мальчик еще ничего, но девочка?