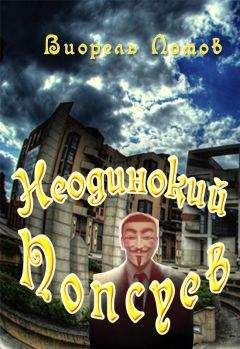Виорель Ломов - Архив
«Странно, что Лавр написал так…Скорее это мои стихи», – подумал Николай.
Николай вспомнил это стихотворение два года спустя. Две операции обрекли его на затворничество. Загнан в клетку как зверь. Он хотел рассказать Лене об архиве, но в нем так глубоко сидел страх матери и скрытность отца, так крепко держало обещание, данное им перед женитьбой, о том, что тайна архива останется тайной до самой их кончины, так цепко пленила сама эта тайна, оберегаемая столько лет, что он всё откладывал, откладывал, пока не понял, что теперь уж точно ничего не скажет Елене, и она сама узнает всё потом…«Странно, что она сама ни разу не спросила даже, что это за вещи. Когда же это было? Мама запретила ей заходить без дела в ее комнату. Елена еще пожала тогда плечами и бросила небрежно: “Как прикажете, Надежда Алексеевна”, а у него спросила потом: “Там что, Кощей на цепи?” Почему они так не любили друг друга?..»
Он и сам толком никогда не смотрел, что находится в комнате матери, так как всё было некогда, да и на это требовались душевные силы. Отец признался как-то, что несколько месяцев потратил на то, чтобы перебрать, перечитать, систематизировать все вещи. Составил реестр. Говорил о какой-то «Царской книге», о материалах по изысканию БАМа, о дневниках чуть ли не самого Александра Васильевича Суворова, стихах Лавра, каких-то письмах и записках эмигрировавших родственников из Туниса, Австралии, Китая. «Всю жизнь прожить в обнимку с коробками! То-то он последние годы даже ночевал в своем кабинете. Прикорнет на диванчике, укроется пледом. А вот маму, похоже, доконал не архив, а мысли». Случайно он подслушал сетования матери на судьбу после того, как она оправилась от первого инсульта. Будто бы ей однажды пришло в голову, что это ее боль переселилась в него и зажила в нем самостоятельной жизнью. Она неустанно муссировала эту мысль и совсем потеряла покой. И всё повторяла, что это ей божье наказание за то, что она так безжалостно поступила со своей матерью. Что она сделала с ней? «Я погубила ее! Я погубила! – бормотала она иногда целыми вечерами напролет. – И Георгия. Он с ней был бы куда счастливее, чем со мной. Даже с той своей Инессой, или с Софьей…»
И однажды, незадолго до ее кончины, среди всей этой невнятицы вдруг слова, удивительно ясные и четкие, обращенные к нему, заставили сжаться сердце, да так, что и по сию пору не отпустило: «Грустно, Николенька, если б ты знал, как грустно. Врут врачи. Врут, врут, врут! Не в сосудах, не в тромбах дело, не в режиме питания и сдерживании эмоций, нет, Николенька! Судьба человека в руках его совести».
Сколько писем. Разным почерком. Близкой родни не осталось нигде. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни в Тифлисе, ни в Орле. По всей видимости, и за границей никого. Суворовых много, но родни среди них нет. Так, однофамильцы или самозванцы. Николай зажег свет, с трудом, опираясь на спинку стула, который тащил перед собой, доковылял до коробки, сел на стул, снял с коробки попону, вытащил из нее тяжелую одежду, толстый альбом с пожелтевшими фотографиями, несколько старинных книг, в самом низу лежала тяжеленная книга в переплете из мягкой кожи. Справившись с нею, Николай разложил ее на столе и тут же стал листать. Он был поражен, наткнувшись на дневник Романовых, который те вели на протяжении трехсот лет. «Неужели подлинный?» – стучало у Николая в висках. Забыв о боли, он сутки напролет не отрывался от книги. Он только раз допустил к себе сиделку сделать укол.
В дневнике были сокровенные мысли всех русских самодержцев, тайны, которые наверняка сведут с ума историков, хоть и оставят безучастными обывателей, много фактов, противоречащих устоявшимся представлениям, и много таких, которые проясняли повороты в истории России и сопредельных с ней государств. Да, курс всемирной истории – самая смешная книга, которую довелось читать Создателю. Многое Николая удивило, многое огорчило, многое порадовало, многое разочаровало, но по прочтении книги его вдруг охватило такое сильное чувство гордости за Россию, которое он, к стыду своему, испытывал лишь тогда, когда исполняли гимн Советского Союза на чемпионате мира по хоккею. «Неужели того чувства мне больше не вернуть? Неужели оно навеки из души ушло в архив памяти?»
Почти все самодержцы были искренни и честны перед собой (или все-таки перед дневником?); искренне хотели процветания и могущества России (во всяком случае, писали так); и все честно признались в конце жизни, что по каким-то причинам этого у них не получилось. И все они, исключительно все, оказались жертвой чужой алчности и собственного идеализма. Так что, в конце концов, требовалось от них – быть честным перед собой или перед страной и народом? Видимо, общей честности, как и чести, не бывает.
«Твори, Бог, волю твою!» – бросилась Николаю чеканная фраза последнего, отчаянного призыва самодержца, на чью голову было вылито столько всякой хулы. Настоянной, увы, на горькой правде.
XLIV
По своему обыкновению, по регламенту, Николай Павлович в перерыве меж напряженных раздумий и венчающих их трудов (занимающих ежедневно едва ли не восемнадцать часов) прогуливался. Не спеша он шел обычным своим маршрутом. Ничто и никто ему в этом не препятствовал, и ритм его широкого шага и не менее широких мыслей был ровный и выверенный– от первого шага до последнего, от интуитивной искорки, невнятного слова до умозрительной глобальной системы. В эти минуты царь вдруг очень ясно осознавал колоссальную ответственность за всё и отдавал себе отчет, что он единственный, кто с этой ответственностью справится. «Твори, Бог, волю свою!» – умилялся он таким простым и таким высоким словам. Прогулка, разумеется, была неотъемлемой частью режима, так как во время ее мысли и замыслы и приобретали необычайную ясность и стройность, лишний раз свидетельствующие об их божественном происхождении.
Иногда он по наитию сворачивал в одну из потайных дверей, проходил в соседнее помещение и там, стоя за колонной, в нише или за глухой портьерой, слушал, о чем судачат подданные. Эта привычка образовалась у него с той злосчастной зимы на стыке первой и второй четвертей этого века. «В стыке– всегда слабина, самое ненадежное место. Особенно если стык из разнородных металлов», – подумал он. Первая четверть представлялась ему хоть и золотой, но мягкой до неприличия, а вторая, слава Господу, отлита из хорошего железа, не хуже, чем первая четверть века прошлого. Окажись в этот момент напротив Николая Павловича трехметровое зеркало, оно с трудом вместило бы в себя величественную гигантскую фигуру царя. Да и Бог его знает – не встретился ли в зеркале тяжелый взгляд Николая с пронзительным взглядом Петра? Он нагнулся и посмотрелся в маленькое круглое зеркальце, которое любит передразнивать придворных дам. Царь сделал себе рожу и прислушался к болтовне. Подданные говорили, разумеется, о нем. О ком же им еще говорить? «О Боге, во всяком случае, говорят в храме», – сделал мысленную оговорку Николай Павлович. О чем говорят, как говорят и что имеют в виду, когда говорят – всё это он давно уже выучил наизусть. Но всё равно нет-нет да и услышишь что-нибудь любопытное. Говорили всегда исключительно в положительном смысле, ибо хорошо знали, что никакую тайну нельзя поверять даже ямке на пустыре. Находились, понятно, острецы, которые рисковали осуждать его дела. Нет-нет, не внешность, разумеется, не облик, не манеры – император усмехнулся, опять погляделся в зеркальце и сделал рожу вторично, – но осуждали в самых деликатных выражениях и с пиететом, и соотнося его образ не иначе как с богами, героями и царями священного писания и греческих мифов. Осуждали в том смысле, который допускал возможность диаметрально противоположной трактовки, более сильной, чем первоначальная. Николай Павлович был доволен: при дворе уже было пять-семь непревзойденных мастеров слова, которые могли стяжать славу Российскому императорскому дому в любом уголке Европы. «Пора, пожалуй, учредить особый Кабинет острословов. Назову кабинет… назову его… пожалуй, так и назову». Болтовня была обо всем. Значит, ни о чем. Послушав мелкотравчатые рассуждения своих детей, царь обычно неслышно удалялся, взлетая мыслями туда, куда не дано было взлетать другим, где вечно находился отрешенный его дух. «Удивительно, как смог этот низкорослый гвардейский офицер увидеть – под собой– Казбек как грань алмаза?»
Вдруг до слуха его… под собой?!хм… донеслось невнятное: «…Нелепо…да-да… Нелепо…»
«Что такое!» – нахмурил брови царь. Он кашлянул, и тугой звук, как гимнастический мяч, а еще вернее ядро, улетел за портьеру. Там он попал в цель, и голоса только два раза произнесли «Ой!» Подданные склонились в приветствии, и в них появилось что-то змеиное, неуловимое и столь же опасное. «Любопытно…весьма любопытно, – подумал Николай Павлович. – У моих детей…»
– А-а, это вы, мои друзья! – произнес он, и густой его голос, казалось, согнул его друзей совсем уж в неприличную дугу. – Продолжайте, вы мне не мешаете. О чем, позвольте полюбопытствовать, речь? О дамах или о турках? Кхм!