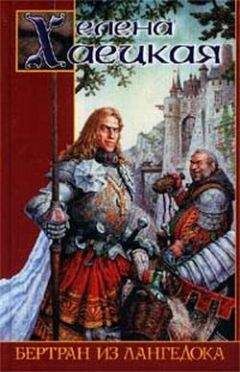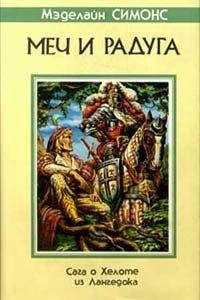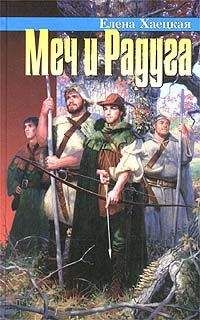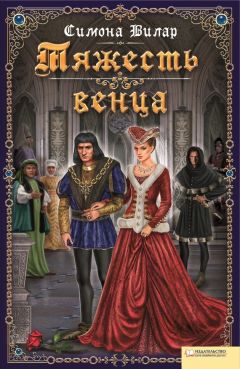Елена Хаецкая - Дама Тулуза
Папа Римский был доволен. Возвратил старику и замок его, и все достояние. Только обложил штрафом непомерным, хотя – если постараться – вполне посильным.
Симон, как мог, рвался помешать замирению Фуа с Церковью. Было бы в силах Монфора – палкой бы суковатой обернулся, лишь бы между спицами этого колеса втиснуться, лишь бы его вращение остановить.
Старик Фуа, Рыжий Кочет, все потуги симоновы, конечно, видел и только посмеивался: а ничего у вас, мессен Симон, и не получится!..
Однако ж отыскал Симон малую лазейку.
Вцепился мертво.
Графы Фуа выстроили, пока под отлучением находились, замок Монгренье неподалеку от своей прежней столицы. Не голыми же им оставаться, коли Церковь старый замок Фуа, гнездо родовое, у них отобрала!
Симон тотчас же раскричался. Монгренье – нарушение договоренности Фуа с Церковью. Насмешка над покаянием. Если графы Фуа – и отец, и сын, и вся свора их братьев и племянников – если все они впрямь решились стать добрыми католиками, пусть докажут чистоту намерений своих. Пусть снесут Монгренье.
Старик Фуа раскричался не меньше симонова. С какой стати ему сносить Монгренье, ежели поклялся он в верности сразу трем епископам – и Магеллону, и Фонфруа, и кардиналу Петру – всем, кому велено!.. Как есть он, граф Фуа, верный католик…
Тут-то Симон и озверел. Отродясь не было в Фуа верных католиков! Вражда Симону взоры застит. Покуда крылья Рыжему Кочету не обломает – не спать Монфору спокойно.
А Рыжий… Ну да ладно, потом о нем, о Рыжем.
* * *Вот так и вышло, что после трех седмиц бесплодной осады ушел из Лурда Симон. И вместе с ним ушел и сын его Гюи, граф Бигоррский. В Тарбе Симон не поленился натравить на Монкада и Санчеса гасконских прелатов. Те торжественно отлучили симоновых недругов от Церкви. За непокорство Папе Римскому. На том и оставили их в покое. Под отлучением – считай что с вырванными зубами, запертые в Лурде – они теперь немногого стоили.
12. Монгренье
Рожьер де Коминж пристально смотрит на свою сестру Петрониллу – таким долгим, испытующим взором, что она поневоле смущается.
Пытается Рожьер заметить перемены в облике сестры, ибо никому во всей большой семье родичей Фуа не по нутру было все то, что сделал с Петрониллой Монфор.
А Петронилла, сколько ни всматривайся, ничуть не переменилась, даже досада берет. Все та же вечная девочка на пороге стерегущей старости, с немного унылым, но правильным, даже красивым, если приглядеться, лицом.
В первое мгновение, завидев перед собою брата, расцвела радостью, потянулась было обнять, подставила лоб для поцелуя – забылась.
Она-то, может, и забыла, да только Рожьер де Коминж ничего не забыл. Отстранил сестру и холодно, как чужой, поцеловал ей руку.
А прислуга уже воркует, уже несет на стол печеного в глине гуся, хлеб, сушеные яблоки и виноград, размоченные в вине урожая прошлого года.
Петронилла и смущена, и тревожится. И радость – неугомонная птаха – бьется потаенно, ибо от всей души любит графиня Бигоррская своего брата Рожьера.
Рожьер же скучен и как будто совсем выпустил из памяти, как любили они друг друга в годы ее девичества.
Садятся за стол – всё молчком. Рожьер споласкивает пальцы в глиняной чаше, отирает о полотенце, берется за широкий столовый нож с костяной рукояткой.
Памятны – и нож этот, и чаша. Ножи к свадьбе Петрониллы с Гастоном Беарнским отец дарил. Сорок штук – не поскупился, все отдал: пусть пируют у дочери на славу, пусть разом садятся за стол в ее доме сорок человек одних только почетных гостей, а сопровождающих и лишних – без счета. Чашу она сама из дома забрала. Почему-то нравилась ей, хоть уже и тогда со щербинкой была.
Графиня негромко расспрашивает об отце: здоров ли, где сейчас находится; если недалеко, то можно ли его навестить.
Отец здоров, хотя годами уже отяжелел. Сидит он в Сен-Бертран-де-Коминж, а уж навестить его – тут как супруг Петрониллы на это посмотрит…
Рожьер отвечает сдержанно, будто опасаясь проронить лишнее слово. Знает, конечно, о чем сестра хочет спросить, да не решается.
А Петронилла – недаром сестра своих братьев; подолгу вокруг да около не кружит. Помолчала, помаялась и подняла глаза – отважная:
– Что говорит наш отец о моем втором браке?
Рожьер недобро усмехается, наклоняется к сестре.
– А сами вы, сестра, что думаете о вашем втором браке?
– Не желала я ни первого брака, ни второго, – в сердцах говорит Петронилла и бросает на стол свой нож. – Господь свидетель, я не делала из этого тайны, да разве меня спросили? Первый супруг годился мне в отцы, второй – в сыновья… Что я должна обо всем этом думать? Что мне следует думать об этом, брат?
Рожьер не сводит с нее глаз.
– Сестра, вы уже понесли от Монфора?
Она заливается краской.
– Сестра, – настойчиво повторяет Рожьер, – вы зачали от него?
Она качает головой.
– Слава Богу! – говорит Рожьер, откидываясь на высокую спинку. – Будем надеяться, что вы неплодны и что Симон ошибся в своих расчетах.
Вот тут Петронилла делается совершенно красной. Будто горячим паром ей в лицо плеснуло.
– Брат! Что вы такое говорите!..
Рожьер протягивает через стол руку, чтобы погладить сестру по пылающей щеке. У него старое, злое лицо, губы некрасиво поджаты.
– Вы сущее дитя, сестра. И все такая же плакса. Слова вам не скажи, сразу в слезы. Я ведь не желал вас оскорбить.
Она молчит. А Рожьер продолжает:
– Вы же понимаете: начни вы сейчас носить Монфору детей, наследников, – и Бигорра…
– Брат! – с отчаянием произносит Петронилла. – Ох, брат!..
Они смотрят друг на друга, разделенные столом и печеным гусем. Входит девушка с кувшином сладкого вина, удивлена: почему обед не тронут. За окном вдруг слышится шум, громкие голоса, смех. Ржет лошадь. Кто-то кричит: «Да забери, забери ты ее, ради Бога!..» Рожьер велит девушке уйти. Наконец Петронилла спрашивает брата:
– А что Фуа?
Фуа!.. Желтые стены с зубцами, оранжевые маки на зеленых склонах, гром копыт по въездной дороге, золотые и красные полосы графского герба – старинное человечье гнездо высоко в горах, на полпути между грешной землей и Господом Богом. Немолчный орлиный клекот, сердитые крики прожорливых птенцов, хлопанье крыльев, запах сырого, только что расклеванного мяса. Воинственный, веселый Фуа, лучшее место на свете.
– А что Фуа?
И то правда, откуда бы Петронилле знать, что происходит в Фуа? Сидит в Тарбе, бедняжка, и дальше своего Монфора ничего не видит. Хорошо. Рожьер потешит ее новостями о Фуа.
Их дядя, старый граф Фуа, сейчас в Каталонии, по ту сторону гор. Незадолго до Рождества получил от церковных властей разрешение. Отлучение с него сняли, допустили к причастию. А главное – возвратили замок и земли Фуа…
Целый год – все то время, что старый граф находился под отлучением, – в родовом гнезде хозяйничали скучные чужаки, монахи из аббатства святого Тиберия. До того жадные, что – представляете? – самого Монфора туда не допустили!
Впервые за весь разговор Рожьер смеется. Но и смех у него стал недобрый.
– Симон хотел было сунуть в Фуа франкский гарнизон, а монахи ему от ворот поворот! Дескать, без всяких франков помощь получают от самого Господа Бога. И выгнали Симона. Симона – выгнали!..
Прикрыл глаза и тотчас будто въяве увидел Фуа, оскверненный, захватанный чужими руками.
Петронилла тихонечко, чтобы брат не заметил, вздыхает. А Рожьер полон новостей, как грозовая туча – тяжелой влагой. И одна весть другой печальнее, хоть уши ладонями зажимай, как в детстве, когда гремит гроза.
Как вышло, что со старого графа, их дяди, сняли отлучение? Уж всяко не даром сделали это католики. Дал им граф, как требовали от него, клятву. Никогда не мутить католическую веру, не давать еретикам ни приюта, ни корки хлеба, ни лоскута ткани. Никогда не прятать у себя катарских священнослужителей и совершенных, но напротив – выдавать людям Монфора их убежища…
– И наш дядя поклялся? – почти шепотом спрашивает Петронилла.
Рожьер снова усмехается.
– Да.
– Вижу я, – говорит его сестра, – что наш дядя любит Фуа больше спасения души.
– Это так, – соглашается Рожьер, кривя губы. И добавляет (а сам следит за ней украдкою): – Да ведь и я тоже.
– Вы?
– И еще наш брат, молодой Фуа. Мы трое – все мы принесли такую клятву.
У Петрониллы выступают жгучие слезы. Все это время, что она сидит за столом против брата, позабыв о печеном гусе – все это долгое время слезы у нее наготове. Так и ждут случая вырваться на свободу. Сострадание к братьем душит Петрониллу, тискает ее горло, не дает вольно вздохнуть.
А Рожьер говорит, безжалостно оглядывая при том сестру, будто барышник – кобылу:
– С нас взяли такую клятву, а вас положили под Монфора.
Ее брат, Рожьер де Коминж. Рыцарь. Самый лучший человек на свете. Ему сорок лет. На лбу и скуле у него новый шрам, которого раньше не было; от этого шрама лицо обрело угрюмое выражение. Рожьер болен своим унижением. Оно пожирает его внутренности, оно изглодало его хуже антонова огня.