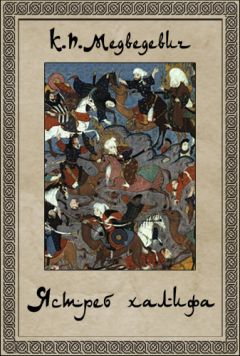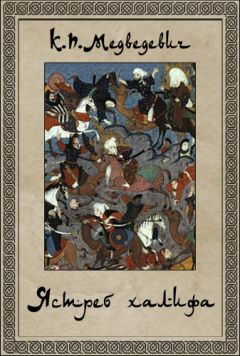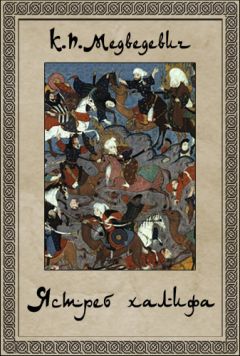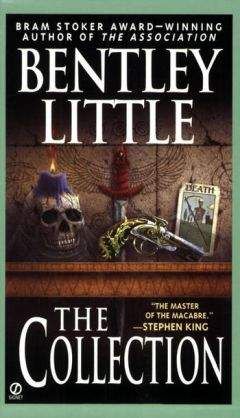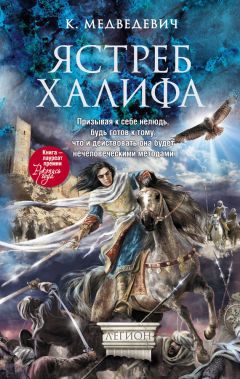К. Медведевич - Ястреб халифа
С тех пор, рассказывали люди, в роду Умейядов раз в девяносто девять лет сумеречная кровь дает о себе знать — рождается девочка нездешней красоты, черноволосая, с глазами, полными лунного света, девочка, которая читает в душах, как в книгах, ибо ей открыты тайные помыслы людей.
Еще говорили, что прекрасная Сулейма, сводившая с ума Тааббата Шаррана, была из таких. Обезумевший от любви Шарран посвятил ей много страшных и темных стихов, и среди них вот эти знаменитые:
Люблю, как женщина в накидку меховую,
Во тьму закутаться в безлюдии ночном,
Пока не изорвет заря одежды ночи,
Пока повсюду мрак и все объято сном.
И забываюсь я в моем уединенье,
Обласкан и согрет пылающим костром.
И только пробудясь, вдруг вижу, потрясенный,
Что с черным демоном я ночь провел вдвоем…
И еще ходили слухи, что прекрасная и гибельная, как гератская стальная кваддара, Асма, правившая сердцем халифа Низара ибн Маадда — а через сердце халифа правившая страной, — была из колдовских красавиц Бени Умейя.
Так что о замурованной арке дверей под крышей Факельной башни так никто толком ничего и не знал. Давным-давно кто-то глупый и смелый на спор спустился на веревке с крыши башни, чтобы заглянуть в таинственные покои через высоко пробитые с толще стен окна — но и окна, забранные решетками-шебеке, оказались заложены изнутри кирпичом.
Впрочем, шептались, что в этих покоях когда-то давным-давно, сотню лет назад, умерла в родах любимая невольница главы рода Умейя — и тот в горе приказал навсегда закрыть комнаты, видевшие смерть сокровища его сердца. На это разумные люди возражали, что в Факельной башне никогда не располагался харим — так что откуда там взяться рожающей невольнице, позвольте спросить?
Так вот, Яхья отвел Тарега на самый верх Башни, в ныне пустующие комнаты своего собрата по ремеслу. Окна в двух больших квадратных комнатах давно расширили, а из одного даже сделали чудесный балкон из тех, что в Ар-Русафа называли «смотрильнями»: они представляли собой высокий квадратный проем в рост человека с узеньким каменным выступом, огражденным изящной каменной балюстрадой. Такое огромное окно затягивали занавесью: сидя за ней, можно было наслаждаться веющим над городом ветерком или прохладой сада — это если окно располагалось на нижнем этаже дома. Ну и, конечно, из него было удобно наблюдать за тем, что творилось внизу — и оттого «смотрильни» были особо любимы женщинами и устраивались в любом хариме.
Осмотрев оба покоя, Яхья остался доволен: ковры, ларцы, подушки, принадлежности для письма и инструменты звездочета, а также бездна изящных безделиц, украшавших жизнь Халафа ибн Бадиса, остались нетронутыми — напуганная событиями прошедшедшего дня дворцовая прислуга не успела ничего разграбить. Впрочем, старый астроном сомневался, что нерегилю будет до того, насколько изящно убраны его комнаты: Тарег выглядел скверно.
Яхья не зря провел два года в землях нерегилей у подножия Голубых гор на далеком западе — изучая и пытаясь разузнать все, что ему желали — и не желали — рассказать и показать самийа этого надменного племени и прислуживавшие им люди. Книжник и философ, ибн Саид подпал под очарование суровых холмов и холодных ледниковых озер, в которых отражались башни высоких неприступных замков. Нерегили любили книги, рукописи, легенды, предания, языки, звезды, магию, шифры, — и были страшно любопытны до всего, а в особенности до сведений о других народах, даже человеческих. Яхью охотно принимали в замках, слушая рассказы об Аш-Шарийа и окрестных странах, о восточных аль-самийа и их королевствах, — и платили самой щедрой монетой: его учили разбирать древнее наречие западных аль-самийа и приставляли переводчиков, читавших вместе с ним бесценные манускрипты. И конечно, отвечали на его бесконечные вопросы — или не отвечали, и тогда взбудораженный запахом тайны Яхья набрасывался с расспросами на смертную прислугу — о, сколько жемчужин и браслетов и ожерелий он раздал, пытаясь узнать, к примеру, почему нерегили враждуют между собой. Или почему они вообще пришли из-за моря. Или почему старший из братьев-князей, в землях которых он гостил, отказался от венца Верховного короля нерегилей в пользу своего дяди, — хотя отец его был старшим в роду. И наконец, самое главное: почему остальные самийа тех краев, заслышав о его гостеприимных хозяевах, начинали плеваться и делать отвращающие знаки. Мятежники, качали головами сумеречники других племен. Проклятые. Убийцы родичей. Кое-что ему удалось узнать, и то, что он узнал, его совсем не обрадовало. Он даже начал сомневаться, не ошибся ли шейх Исмаил, верно ли расслышал слова ангела. Но тут война с Владыкой Севера, которая непрерывно тлела уже несколько веков, вдруг вспыхнула ярким пламенем. Небо над горами заполыхало невиданным пожаром, и в неспокойном сне голос свыше приказал Яхье — пора. Время идти на запад — но не в заселенный нерегилями край, а в земли по другую сторону гор. В северные земли. Час предназначенного тебе самийа пришел. Яхье было любопытно: наверное, в тех замках его до сих пор вспоминают — а помните, гостил у нас такой смешной смуглый человечек с отрядом мрачных воинов, они еще по четыре раза на дню шлепались на колени и начинали кланяться куда-то на восток? Может, он даже попал в нерегильские хроники или летописи — эдаким курьезом из восточных земель. Еще ему было совестно: хотя Тарег Полдореа принадлежал к другому княжескому дому, причем враждовавшему с домом принимавших его князей, он все-таки был нерегилем. Получалось, что Яхья злоупотребил гостеприимством: гостил в домах — а потом увез пленником родича хозяев. Старого астронома утешало то, что, во-первых, Тарега при упоминании соседей начинало трясти от ненависти, а во-вторых, Яхья все-таки, как ни крути, спас его от страшных пыток и не менее страшной смерти. Когда слуги Владыки Севера выволокли Тарега из подвалов, Яхью предупредили: с пленником только начали… забавляться. На самийа было страшно смотреть. Правда, ибн Саид не думал, что Тарег ему за это благодарен. Подавляя одну из многочисленных попыток бунта — а за время пути нерегиль предпринял их достаточно, — Яхья, прихватив отросшую черную гриву, повозил самийа лицом по земле и прочел проповедь о пользе благодарности и вреде злопамятства. Так вот нерегиль в ответ плюнул ему в лицо и сказал, что, будь у него выбор, он бы предпочел пыточный застенок его, Яхьи, обществу. Самое печальное было в том, что Тарег не врал.
Так или иначе, но за те два года, пока Яхья гостил у нерегилей, он сумел узнать об этой породе сумеречников немало такого, о чем никогда бы не узнал, расспрашивая кого-то другого. Более того, если бы ему рассказали малую толику того, что он собственными глазами увидел и собственными ушами услышал, он бы рассмеялся тому человеку или самийа в лицо — свидетелем настолько невероятных вещей ему приходилось бывать.
И вот сейчас, заглянув в посеревшее лицо с запавшими глазами и оценив заплетающуюся походку нерегиля, Яхья понял — дело плохо. У Тарега, как выражались его соплеменники, «перерасход». После битвы при Фейсале все обошлось недельным сном. Однако сейчас Яхья был больше чем уверен — никакой сон нерегилю не поможет. Видимо, безумец воистину считал, что сегодняшний день будет его последним днем, и растранжирил силы больше, чем имел.
Поэтому когда Тарег увидел печать Дауда над дверями и уперся на пороге, как строптивый верблюд, Яхья скорее пожалел его, чем рассердился. Наплевав на почтительность и вежливость, ибн Саид с силой толкнул нерегиля в спину — и тот, коротко вскрикнув, влетел в комнаты. Выпрямился, огляделся мутными, заволоченными дымкой страдания глазами, — и упал, как подкошенный, на ковры.
Про перерасход Яхье рассказывали, что самое страшное — это не головная боль, не ломота в теле, не слабость и не отвратительная судорожная дрожь, бегающая по позвоночнику. Самое страшное — это не телесная боль, а боль в неких, скажем так, жилах, по которым через самийа течет сила. Если ее окажется слишком много, эти нетелесные протоки терзает боль, как от ожога. Поэтому нерегили очень боялись перерасхода — а если получали его, то окружали страждущего всевозможными заботами: не давали царапать грудь в тщетных попытках добраться до источника боли, не позволяли ломать и сдирать ногти, царапая в агонии мебель, поили какими-то странными отварами — до рецептов Яхью, конечно, не допустили; впрочем, нерегили, видимо, полагали, что человека просто мучает праздное любопытство. Когда день на третий-четвертый прекращали ныть жилы и связки духовного тела, тело видимое начинало страдать с удвоенной силой: подступал жестокий голод, но желудок отказывался принимать пищу, несчастных тошнило — а они как раз остро нуждались в еде. Телесная слабость могла обернуться серьезным увечьем и даже смертью — не получавшая пищи плотская оболочка начинала тогда пожирать сама себя, и несчастный мог умереть от истощения. Так тело мстило магу за непозволительное насилие над собой — и гордыню.