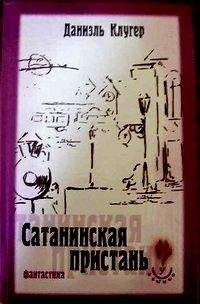Андрей Валентинов - Ангел Спартака
— Еще не пришли, Аякс? Ты примету не спутаешь?
Ох не спутаю, госпожа Папия!
Крикс говорил, что для вождя главное — верное место в бою выбрать. А тут правила общего нет, каждый раз заново соображать приходится. Иногда надо с гладисом первым в строй вражеский ворваться, крови не жалеть, иногда — на холме под пинией сидеть не двигаться, уверенность в бойцах крепить. Порой же — пауком в сети серебристой затаиться, выжидая. Как мы с Аяксом сейчас. Интересно, примета эта — не паук ли?
— О-го-го!
— Что — «о-го-го», Аякс?
Кажется, пришли? Две ступеньки, слева кольцо ржавое, не иначе от цепи, дверь в покраске свежей, зеленой. Где «о-го-го»-то?
Наверх погляди! Наверх? Точно, над дверью...
О-го-го!
АнтифонКогда моему Аяксу за семь десятков перевалило, он всех удивил — каяться начал. В грехах своих каяться. Прежде он, поди, даже слово такое — «грех» — не слыхивал. А тут... Приплыли к нам какие-то бородатые в повязках пестрых, молельню выстроили, принялись народ смущать. Конец света, вечные муки, суд посмертный!.. Много, говорят, сейчас таких развелось. Все смеялись, руками разводили — кроме Аякса. Скинул одноглазый калиги, натянул на плечи худые тунику старую (он ее «рубищем» величал) и пошел по берегу чаек распугивать. Я, мол, грешник величайший из земли греховной!.. Даже хотел на шею жернов мельничный повесить, но тут уж я вмешалась — запретила.
И что интересно — ни разу он, Аякс мой, про арену, про дела свои гладиаторские не вспомнил. Не иначе не «грех» это вовсе. А вот домик в Помпеях поминал часто. Мол, в той земле греховной грех над дверью каждой о грехе вещает, к греху манит!
Ну не над каждой дверью, конечно...
* * *Точным подобием, гость, изваял мою гордость художник
Зависть уйми — и входи, гордость потешишь свою.
Гордость оказалась глиняной. Краска в нескольки местах осыпалась, но в целом смотрелась грозно. Наконечник гордости целился прямо в нас.
— Врет! — выдохнул Аякс, глазом своим единственным гордость меряя. — Не бывает такого! Но все равно...
— О-го-го! — согласилась я, хозяйскую выдумку оценив. Ну кто мимо такой двери пройдет, не остановится?
И как таберну кличут? «Приап»?
Аякс покрутил головой, хмыкнул:
— Почти. Теперь поняла, госпожа Папия, что за город эти Помпеи?
Таберна именовалась «Огогонус».
* * *Стол в комнате был маленьким да еще хромым, поэтому дорожник расстелили прямо на полу. Неудобно, зато видно все: вот Рим проклятый, стенами окруженный, вот дорога Аппиева, вот дорога Латинская, вот Капуя... А вот и мы! Достала я из волос заколку — и прямо в кружок с надписью «Помпеи» вонзила.
С почином!
— Не увидел бы кто. — Аякс покосился на карту, рот скривил. — Заглянут в двери — и чего скажут? Приехал, значит, в Помпеи хрен одноглазый, «волчицу» смазливую привез, дабы передком поработала, — и принялся заколки тыкать. Где это, мол, сейчас когорты претора Клавдия Глабра обретаются?
Сейчас спрячу, — кивнула я. — Запомню только.
Аякс был прав — народ в Помпеях оказался глазастый и очень уж любопытным. Как и сам город, впрочем. Нас уже обо всем расспросили, со всех сторон оглядели, между собой перешептались. Оно и неплохо, нам скрывать нечего.
— …А если для полной ясности, госпожа Папия, то лупанарий и есть. «Волчатник», в общем. Весь город этот, Помпеи. Сюда не только со всей Кампании, из Рима даже приезжают, да разве только из Рима? Вот сейчас урожай соберут, скот с гор сгонят, сестерции в узелок завяжут — и сюда. Тут за каждой дверью... На что я виды видал, а сразу скажу: срам! Добро б еще девки, «волчицы» всякие, так и ведь и гладиаторы... Тьфу ты, и говорить не хочется. Поэтому, госпожа Папия, меня слушайся, не меньше, чем в Капуе, слушайся. Твое дело — здесь сидеть, о Клавдии Глабре думать. А уж я...
— Я буду послушной, мой Аякс.
Я буду послушной. Я буду сидеть в «Огогонусе», я буду вспоминать дорожник (свернула, спрятала подальше), я буду думать только о преторе Гае Клавдии Пульхре Глабре, о его когортах — и ни о чем больше. Пять когорт вышли из Рима, но это не все, где-то есть шестая, а может, и седьмая, и еще, и еще.
Хотела войны, Папия Муцила, внучка консула Италии? Вот она, твоя война!
Далеко, очень далеко, мой Эномай, мои друзья, наш Везувий, ставший таким родным, привычным, мой дом, первый в жизни дом. Далеко — не здесь. Я не буду вспоминать, нельзя, это война, я буду думать только о когортах Клавдия Глабра! Римляне хитры, умны, они умеют воевать, эти волки, мы готовились целый год, и бой — первый наш бой! — проиграть нельзя. Спартак победит, обязательно победит, но для этого он должен знать о римских когортах все, даже больше, чем сам Клавдий Глабр.
Аякс, Аякс! Друг мой верный, наивный! Или я не ведадаю, что за город такой Помпеи? На это у нас со Спартаком есть Расчет. В Капуе, да и повсюду, сейчас стражу удвоили, каждого приезжего-прохожего трясут. Напугали мы мирную Кампанию, до самого Рима страх докатился. А Помпеям бояться нечего, потому как лупанарий с глиняными гордостями над дверями никто не трогает — и трогать не станет. Нет. И стен нет, и стражи мало — и народу полным-полно. Срам, говоришь? Срам после начнется, когда легионеров гордых ниже последней «волчицы» опустят!
Бой не выбирает — куда поставили бойца, там eму и драться. Блеск доспехов, легкая пыль над полем… Твоя война, Папия Муцила!
АнтифонАгриппе я рассказала. Нечего уже скрывать, никого из нас уже нет, я — последняя. Консул велел принести дорожник, почти такой же, какой был у меня в Помпеях долго водил пальцем по папирусу, головой качал. А потом и рассудил, что сам бы на такое не решился. Первый бой, оружия мало, в войске — пастухи и беглецы с вилл. И шесть римских когорт во главе с претором. Ни он не решился бы, ни Цезарь Младший. Разве что сам Гай Юлий Старший, тот, конечно, мог.
Я не спорила. Консулу Марку Випсанию Агриппе, разбившему самого Марка Антония, виднее. Но и Клавдий Глабр был не из худших, и все остальные — те, кого проклятый Рим посылал против нас.
Они еще не знали Спартака!
* * *— Представь, уважаемая Папия, что по нашей улице бегает что-то весьма напоминающее собаку. Лохматое, как собака, лает, как собака, кусается, как собака. И даже углы метит, как собака. Это — собака, как думаешь?
Хозяин таберны дядюшка Огогонус блаженствовал. Маленькие глазки прикрыты, на ярких пухлых губах — улыбочка, что у твоего младенца в колыбели, ладошки сложен ы поверх безразмерного брюха. Этакий кожный мех с ушами — и с гордостью своей Огогонусовой, понятное дело.
— Это загадка, дядюшка? — улыбнулась я.
— Притча! — улыбнулись в ответ масляные губи. — Притча, дорогая гостья!
Двое нас в триклинии — не в общем, в хозяйском, куда не всех пускают. Он на ложе — и я на ложе. И столик меж нами — вроде камня пограничного. На столике, как водится миски со снедью, килик старинный черного лака — редкий, такой сейчас мало где увидишь. Сюда и пригласил — в первый же вечер. Мы с Аяксом к раз нашему декуриону конному собрались, да не вышло. Прислал он мальчонку с извинениями, что, мол, дела, что, мол, обидно, но как только, так сразу. Да! Переглянулись мы с одноглазым, об одном и том же подумав. Узнать бы о делах декурионовых побольше — да с подробностями! Ничего, Феликс Помпеян уже сказал свой «алеф». Значит, будет и «бейт». Тут-то меня дядюшка Огогонус и позвал.
— Если притча, то... В чем ее смысл, дядюшка?
По притчам я, считай, знаток, но такой слыхать не доводилось. И вообще, что ему надо, меху с ушами? Достоинством своим похвалиться? Пусть попробует только!
Звали нашего хозяина, понятное дело, не Огогонусом, иначе, но это в глаза. А за глаза — именно так, это я уже узнала. Как и все прочее: что за таберна, какой люд тут бывает, как время проводит. Не сама, Аякс помог, осторожный он парень — и глазастый, даром что глаз один всего.
— Смысл... — Вздох, неожиданно тяжкий, сотряс ложе. — Смыслов много, уважаемая Папия!
Вот уж не думала! Если по улице бегает что-то, похожее на собаку, — это и есть собака. А если над дверью таберны достоинство глиняное присобачено — то это и есть «волчатник». Лупанарий — от ступенек до черепицы на крыше. Комнаты с девочками-«волчицами», комнаты для тех, кому податься с бродячей «волчицей» некуда... Помпеи! Сбежала бы, так нельзя. Главное же, наш человек дядюшка Огогонус, иначе бы не направили меня сюда. Иное дело, насколько «наш».
— Если ко мне в таберну приезжает кто-то, похожий на красивую девушку... —открылись маленькие глазки, ударили острым взглядом. Тут и я вперед подалась, поняла — не шутки шутит — и не дурит, не на достоинство свое намекает
— Друзья любят меня, дорогая гостья. Друзья делают мне подарки — ценные подарки. Твой приезд, уважаемая Папия, лучший из подарков. А подарки надлежит беречь.
Темные глаза смотрели в упор, не отпускали. Ох не прост он, дядюшка Огогонус! Кто бы подумать мог?