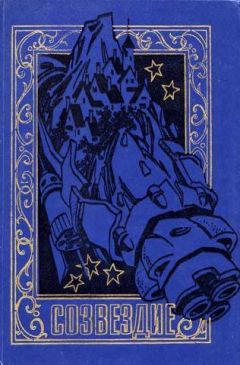Андрей Мартьянов - Без иллюзий
Я разозлился, потому что дрезденец был прав.
— Кто еще думает, что мы не справимся? — рявкнул я.
Желающих возражать не нашлось.
— Разойдись, — я махнул рукой. — Через полчаса выходим на станцию.
Поезд уже ждал нас, когда мы прибыли. Я даже присвистнул: не ожидал такое увидеть — это был огромный старый бронепоезд времен Великой войны. Я предъявил бумаги, мы сняли пломбы с вагонов и по деревянным сходням сгрузили танки.
Башни были сняты, пулеметы демонтированы. У двух машин не завелся двигатель, их пришлось налаживать прямо на платформах. Это была только половина обещанного, еще три танка должны были приехать на втором бронепоезде приблизительно через неделю, как сообщили в полк из Берлина.
Я попросил еще два отделения в помощь. Мы работали до наступления темноты. Хотели, чтобы утром все три танка уже находились на месте. Один действительно добрался до казарм, у второго на полпути отказал мотор, третий при повороте потерял гусеницу, завертелся и свалился в кювет. Хорошо, что этого никто не видел.
Мы остались возле поврежденных танков на ночь, а утром я попросил, чтобы мне дали еще людей. Все рвались нам помочь, так что добровольцев оказалось больше, чем требовалось. Подполковник в этот день уехал в Дрезден, а майор Кельтч — вероятно, по рассеянности, — позволил всем желающим отправиться к новым танкам. В результате мы работали, окруженные целой толпой курящих, галдящих и смеющихся солдат.
Время от времени мы подзывали то одного, то другого и заставляли подержать здесь, подвинтить там. К полудню мы вытащили танк из кювета и разобрались с гусеницей.
После этого мы только тем и занимались, что ремонтировали и отлаживали наши танки. А в следующую субботу прибыл второй бронепоезд, посланец из прошлого с подарками для будущего. Мы так были увлечены работой, что напрочь забыли о печках, щелях, плохо подогнанных рамах и дырках в крыше. Первый же холодный дождь напомнил о нашей беспечности.
«Ты теперь меня бы не узнала, — писал я маме в эти дни. — Мы живем в постоянных лишениях, как будто находимся не в казармах в сердце Тюрингии, а на бивуаке, в походе, посреди враждебной и чуждой страны. У нас холодно, и с потолка течет, наши одеяла влажны, иногда приходится спать, обмотав горло шарфом. Но никто не жалуется. Все мы увлечены только одним: нашими машинами. Их нужно поскорее довести до ума, чтобы можно было начать тренировки. Весной предстоят маневры и никто в полку не хочет ударить в грязь лицом. Много внимания мы уделяем физической подготовке. Мы бегаем, прыгаем, поднимаем штангу, чтобы на спортивных состязаниях достойно представлять наш полк».
Я всерьез полагал, что мы подвергаемся лишениям и закаляем дух и тело достаточно для того, чтобы впоследствии пережить самые тяжелые испытания, какие только могут выпасть на долю солдату. Да все мы так считали.
* * *За всеми этими делами зима прошла незаметно, а в мае следующего, тридцать шестого, года мы впервые выступили из Айзенаха и двинулись к полигону Ордруф, который размещался на краю Тюрингенского Леса.
К тому времени я получил первое офицерское звание. В мае в Тюрингии еще стоит весна, и в густой темной зелени леса, покрывающего старые, пологие, все повидавшие горы, звенели птичьи голоса. Мне казалось, что рев моторов ни в малейшей степени не нарушал здешнюю гармонию — и точно, мы как будто не пугали птиц своим появлением, напротив, они ликовали при виде грозных боевых машин, медленно продвигающихся по старым дорогам, которые помнили, надо полагать, еще римских легионеров.
Офицерские квартиры размещались в крошечном старинном замке времен миннезингеров. Здесь было тихо, на рассвете еще колыхались белые туманы и фазаны выходили из запущенного парка, чтобы бродить по дорожкам. Ординарцы спотыкались о них, а один из них как-то выронил кофейник и облил бедного фазана утренним кофе.
Мы занимались стрельбами до конца июня. Осенью предстояли маневры, а летом нам привезли еще машины. Теперь в полку было в общей сложности двадцать два танка, и мы вылизывали их с утра до вечера.
* * *Осенью солдаты первого призыва после введения всеобщей воинской повинности покидали полк. Вечером, накануне отбытия, ко мне неожиданно зашел Генрих Тюне. У него не было штатского костюма, и он подчеркнул свое состояние просто тем, что расстегнул воротничок и снял пояс.
Я кивнул ему:
— Что тебе, Генрих?
— Так, поговорить. — Он просочился в комнату.
Мой сосед, лейтенант Майер, сейчас отлучился в город. У него было, насколько я знал, свидание с местной девушкой, на которой он собирался жениться. Благопристойное свидание в присутствии родителей юной фройляйн, которым совсем не хочется, чтобы их привлекли к ответственности за «сводничество». Меня подобные вещи напрягали, и я предпочитал обходиться без местных девушек с их бдительными маменьками и унылыми папеньками, у которых явно есть более интересное занятие, чем просиживать в гостиной с потенциальным зятем.
У Генриха при себе имелся шнапс. Раньше я никогда не замечал, чтобы он выпивал. Наверное, он и таким способом пытался показать, что он теперь человек штатский.
— Не будешь скучать по полку, Тюне? — спросил я, наполовину развлекаясь, наполовину недоумевая.
Он тряхнул головой:
— Не особенно… Вы к нам хорошо относились, вот я и хочу спросить: как по-вашему, будет война?
— Странный вопрос, Генрих. — Я достал две маленьких рюмочки, налил. — Сам ты как полагаешь?
— При нынешнем курсе — обязательно, — кивнул Генрих.
— И почему же ты не хочешь остаться в армии?
— Потому что это будет несправедливая война, — сказал Тюне. — И ничем хорошим для нас она опять не закончится.
— Тюне, тебе не кажется, что ты ведешь какие-то предательские разговоры? — насторожился я.
— Вы меня знаете, — он выглядел грустным, — я ведь никогда не вру. Что думаю, то и говорю.
— Ну так я тебе тоже скажу то, что думаю, — отозвался я. — Германия должна забрать то, что по праву принадлежит ей. То, что у нее отняли обманом и предательством. Мы знаем, кто наш враг, кто только и ждет удобного момента, чтобы напасть и попытаться снова нас унизить, обобрать. Я хочу лучшего будущего для Германии.
— Я тоже, — тихо проговорил Тюне.
Я вдруг понял, что он пытается мне сказать.
— Ты коммунист?
— Был… Наверное, до сих пор… Не знаю, — признался он наконец.
— Зачем ты все это мне говоришь?
— Я хочу, чтобы вы мне объяснили, как мы будем жить. Может быть, я и останусь в армии. В Дрездене у меня нет работы. Да и вообще меня там никто не ждет. А вам я доверяю.
У меня не было никакого желания заниматься проблемами душевного мира Генриха Тюне.
Поэтому я сказал ему:
— В общем, так. Я считаю, что Гитлер — это будущее Германии. Порядок, сила, гордость. Мы имеем право отомстить за то, что с нами сделали в восемнадцатом. Если бы ты видел, как на аэродромах уничтожали самолеты… — я махнул рукой. — Я тебе высказал свою точку зрения. Все эти твои лишние откровения о том, что ты был коммунистом, — всего этого я не слышал. Ты хороший слесарь, хороший механик, хороший водитель. В полку тебе найдется место.
Тюне медленно поднес руки к горлу, застегнул пуговицы. Я понял, что он решил остаться. Может быть, я его убедил. Может, просто подтвердил то, что он всегда знал внутри себя. Я не священник, чтобы копаться во всех этих вещах.
* * *Дни побежали один за другим. Тот самый порядок, который в свое время пленил нашу мать, а потом и меня. В октябре прибыло пополнение — новобранцы нового призыва. В ноябре мы лишились сразу двух рот и шести офицеров — их перевели во вновь образованный Седьмой танковый полк. В январе тридцать седьмого к нам в Айзенах прибыло еще одно танковое соединение, из Касселя. Они быстро и деловито пристроили свои казармы к нашим, и теперь у нас появились товарищи, друзья и соперники.
Я помню кучу каких-то мелочей, вроде бы несущественных, но имеющих один общий смысл: они означали неуклонное наращивание нашей мощи, возрождение страны, которое шло семимильными шагами, как в сказке.
Помню невероятное попурри, которое исполнил наш духовой оркестр под командованием (иначе не скажешь) капельмейстера Ульриха в честь прибытия генерала Лутца, и состояние эйфории, которое охватывало нас, когда мы слушали эту возвышенную духовую музыку и видели свои готовые к бою, ревущие боевые машины.
Помню, как весной тридцать седьмого наши танки впервые начали оборудовать рациями. Это существенно облегчало работу. Теперь координация осуществлялась быстро, точно и скрытно, не то что раньше, когда приходилось подавать сигналы флажками.
* * *Но лучше всего почему-то помнится забег по лесу в апреле тридцать седьмого года. Это было спортивное состязание, устроенное для отдыха и укрепления товарищеского духа. Мы мчались как сумасшедшие по лесу, скользя по тропинкам, кое-где уже нагретым и горячим почти по-летнему, а кое-где — с холодными лужицами и даже пятнышками снега. Юная листва готова была вспыхнуть зеленым пламенем, пронизанная светом, — как это всегда бывает в апреле, — многие птицы уже вернулись из теплых краев и заливались радостным пением. Сердце стучало как сумасшедшее, в ушах бился пульс, горло перехватывало, в груди горело. Мы бежали и бежали, время от времени между стволов деревьев мелькал чей-то мундир. Пару раз я падал и просто лежал на земле, наслаждаясь ее теплом, ее ласковым дыханием.