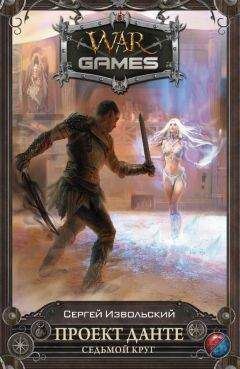Синклер Льюис - У нас это невозможно
Национальный совет имел постоянного председателя с решающим голосом и с правом руководить прениями по своему усмотрению, но председатель этот не избирался – он назначался президентом; и первым назначенным на этот пост (без ущерба для остальных его постов) оказался государственный секретарь Ли Сара-сон. С целью охраны свобод рабочего класса председатель получил право отводить любого несознательного члена Национального совета.
Всякие забастовки и локауты были запрещены федеральным уголовным законодательством для того, что бы рабочие прислушивались к голосу разумных представителей правительства, а не беспринципных агитаторов.
Приверженцы Уиндрипа называли себя «корпоратистами», или просто «корпо», причем это сокращенное прозвище стали употреблять повсеместно.
Злые и грубые люди называли корпо «корпсами»[14]. Но они отнюдь не походили на трупы. С гораздо большим основанием можно было это название применять к их противникам.
Хотя корпо продолжали обещать дар в 5 тысяч долларов каждой семье, «как только будет закончено фундирование необходимого выпуска облигаций», делами бедняков, в особенности самых недовольных и строптивых, занялись минитмены.
Теперь можно было объявить всему миру (и это было сделано самым решительным образом), что безработица при милостивом правлении президента Берзелиоса Уиндрипа почти исчезла. Почти все безработные были собраны в громадные трудовые лагери под начальством офицеров ММ. Жены и дети находились вместе с ними и должны были заботиться о приготовлении пищи, стирке и починке одежды. Безработные работали не только на государственных предприятиях – их могли нанимать также частные предприниматели, с умеренной оплатой в один доллар в день. Но так как люди по природе своей эгоистичны даже в утопии, то большинство предпринимателей стали увольнять своих более высокооплачиваемых рабочих и заменять их людьми из лагерей, которым можно было платить не больше доллара в день, а уволенные рабочие, в свою очередь, попадали в трудовые лагери.
Из получаемого доллара рабочие платили администрации лагеря от семидесяти до девяноста центов в день – за стол и помещение.
Наблюдалось, конечно, известное недовольство среди людей, имевших раньше автомобили и ванные комнаты и евших мясо два раза в день; теперь им приходилось ходить по десять-двадцать миль в день, мыться раз в неделю вместе с пятьюдесятью другими в длинном корыте, получать мясо только два раза в неделю – если они вообще получали его – и спать на жестких койках по сто человек в комнате. Однако возмущение оказалось слабее, чем мог предполагать такой рационалист, как Уолт Троубридж, потерпевший поражение соперник Уиндрипа. Но зато каждый вечер громкоговорители доносили до рабочих дорогие голоса Уиндрипа и Сарасона, вице-президента Бикрофта, военного министра Лутхорна, министра просвещения и пропаганды Макгоблина, генерала Куна или других гениев, и эти олимпийцы, разговаривая с самыми грязными, самыми усталыми и самыми несчастными людьми, как сердечные друзья, сообщали им, что на их долю выпала славная роль быть краеугольными камнями Новой Цивилизации, авангардом победителей мира.
Те воспринимали это, как наполеоновские солдаты. Ведь были еще евреи и негры, на которых можно было смотреть сверху вниз. Об этом заботились минитмены. Человек чувствует себя королем до тех пор, пока ему есть на кого смотреть сверху вниз.
С каждой неделей правительство все меньше сообщало о результатах работы Совета, который должен был изыскать обещанные 5 тысяч долларов на человека. Проще было отшивать недовольных кулаком какого-нибудь минитмена, чем повторными заверениями из Вашингтона.
Но большинство пунктов уиндриповской программы было выполнено, конечно, если толковать их здраво. Например, инфляция.
В Америке этого периода инфляция не шла ни в какое сравнение с германской инфляцией 1920-х годов, но она была довольно значительна. Зарплату в трудовых лагерях пришлось повысить с одного доллара в день до трех, и рабочие получали эквивалент шестидесяти центов в день по ценам 1914 года. На этом зарабатывали много все, за исключением бедняков, чернорабочих, квалифицированных рабочих, мелких коммерсантов, людей свободных профессий и старых супружеских пар, живущих на ежегодную ренту или на сбережения, – последним действительно пришлось туго, так как их доход сократился втрое. Рабочим как будто увеличили зарплату втрое, но они видели, что в магазинах цены на все возросли гораздо больше, чем втрое.
Сельское хозяйство – которому инфляция, казалось бы, несла выгоду, если исходить из теории, что легко поддающиеся изменениям цены на сельскохозяйственные продукты будут повышаться быстрее всего, – в действительности пострадало больше других отраслей, так как после первого оживления на внешнем рынке импортеры американских продуктов нашли невозможным иметь дело с таким неустойчивым рынком, и экспорт американских пищевых продуктов – даже тот, какой еще имел место, – окончательно прекратился.
И как раз для крупного капитала – этого древнего дракона, которого епископ Прэнг и сенатор Уиндрип намеревались убить, – наступили теперь хорошие времена.
При ежедневно меняющейся стоимости доллара тщательно разработанные в крупных предприятиях системы цен и кредита стали такими запутанными, что председатели и торговые директора фирм засиживались в своих конторах далеко за полночь, с мокрыми полотенцами, обмотанными вокруг головы. Но они находили некоторое утешение в том, что при обесцененном долларе они могли погасить всю свою задолженность по подписным обязательствам, уплачивая по старой номинальной стоимости, то есть избавляясь от задолженности из расчета по тридцати центов за сто. Благодаря этому, а также благодаря тому, что при такой валютной неустойчивости рабочие и служащие не знали точно, сколько они должны получать, а профсоюзы были уничтожены, – самые крупные промышленники в результате инфляции удвоили свои состояния – в реальных ценностях, – по сравнению с тем, что они имели в 1936 году.
Ревностно уважались еще два пункта уиндриповской энциклики – пункт о преследовании негров и покровительственной политике в отношении евреев.
Первые совсем не желали с этим мириться. Бывали ужасные случаи, когда целые южные округа – с преобладающим негритянским населением – подвергались разгрому со стороны негров, которые захватывали имущество белых. Вожаки негров ссылались, правда, в этих случаях на то, что эксцессам предшествовали негритянские погромы, устраиваемые минитменами. Но, как правильно сказал доктор Макгоблин, «министр культуры», все это было настолько неприятным делом, что не стоило это и обсуждать.
Смысл уиндриповского девятого пункта, в отношении евреев, был понят, и пункт этот усердно выполнялся по всей стране. Все понимали теперь, что евреев не надо выгонять из фешенебельных отелей, как это делалось в прежние, возмутительные времена разгула расовых предрассудков, а надо просто брать с них вдвое дороже. Равным образом все понимали, что не надо препятствовать евреям заниматься торговлей, а надо заставить их давать более крупные взятки уполномоченным и инспекторам и без всяких разговоров подчиняться всем предписаниям, ставкам заработной платы и прейскурантам, установленным чистокровными англосаксами из различных торговых ассоциаций. И, кроме того, евреям всех слоев общества следовало как можно чаще выражать свой восторг по поводу того, что в Америке они нашли убежище, – жизнь их в Европе с ее предрассудками была плачевна.
В Форте Бьюла Луи Ротенстерну, поскольку он всегда, бывало, первым вставал для исполнения старых национальных гимнов «Звездное знамя» или «Дикси», а теперь для исполнения гимна «Славься, Бэз» и поскольку он издавна слыл другом Фрэнсиса Тэзброу и Р.К. Краули и в свое время часто, по доброте душевной, безвозмездно утюжил воскресные штаны еще пребывавшего в безвестности Шэда Ледыо, разрешили сохранить свое портновское заведение, причем, конечно, подразумевалось, что он будет брать с минитменов лишь четверть цены или ничего не брать.
Зато некий Гарри Киндерман – еврей, который немало заработал, будучи агентом по продаже кленового сахара и оборудования для молочных, так что в 1936 году он уже вносил последние платежи за свое новое бунгало и за «бьюик», – был всегда в числе тех, кого Шэд Ледью называл «дерзкими еврейчиками». Он смеялся над флагом, над церковью и даже над Ротарианским клубом. Теперь он увидел, что фабриканты без всяких объяснений отказываются от его услуг.
В середине 1937 года он продавал на улице сосиски а его жена, так гордившаяся своим пианино и старым американским сосновым буфетом в их бунгало, умерла от воспаления легких, простудившись в покрытом толем сарайчике, куда им пришлось переехать.