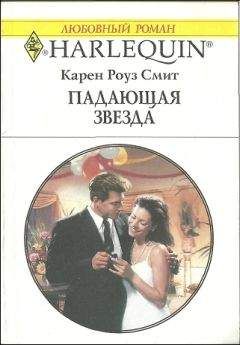Евгений Токтаев - Тени надежд
– Письмо от Птолемея.
– Давай, – стратег нетерпеливо протянул руку.
"Птолемей – стратегу Азии.
Радуйся, Антигон!
Мне здесь очень хорошо. Кормят от пуза три раза в день, да такими яствами, что ты отродясь не пробовал.
Сижу на золоте, куда взгляд ни кинь – повсюду оно. Иной раз яблоко в руки возьму, а оно золотое. Опасаюсь, как бы ослиные уши не выросли.
Сарды твои, Антигон".
– Вот шельмец, – хохотнул Кен, – голыми руками Сарды взял! А ведь не верил никто. "Глупейшая затея..." Твои слова, Монофтальм!
– Беру обратно!
– Мидас-с-с, – протянул Пердикка.
– Да, только не Лагид, – возразил Гарпал, вновь одевший серьезную маску, – полагаю, он – лишь одна из рук, что превращает в золото все, к чему прикасается. Есть и другие, Неарх, к примеру...
– Да все вы! – весело сказал стратег, – слава вам, македоняне!
"Сарды твои, Антигон".
И Сарды, и Милет, и Эфес! Галикарнаса черед.
Снаружи глаза слепила колесница Гелиоса. Потянулись к северу стаи перелетных птиц. Весна гнала зиму.
Встречи
Весна пришла в горы, пробудив их от сна, оживив веселой капелью, наполнив истонченные ленточки рек бурными потоками новой силы, вернув в леса тысячеголосые птичьи хоры, на все лады славящие очередное рождение.
Набухают почки на деревьях, скатываются с еловых лап тяжелые шапки мокрого снега. Разливаются реки в глубоких долинах, питаемые бессчетным количеством мелодично журчащих ручьев, отрезают людские поселения друг от друга. Откуда возьмется у горца лодка, когда эту же реку летом по колено перейти можно? Жди теперь, пока высокая вода спадет.
Летит весна на крыльях, одолженных у Ники, спешит поклониться дубу Зевса Додонского. Не ронял по осени листву вечнозеленый Отец Лесов, но и он, отметивший на теле своем не одно столетие, выглядит молодым и свежим, радостно вскидывает тяжелые ветви, здороваясь с солнцем, принимая теплое рукопожатие Нота, южного ветра,
В укромном овраге заворочался здоровенный сугроб с продушиной на вершине, затрясся изнутри, осыпаясь, и оттуда показалась медвежья морда. Морда недовольно фыркнула, осуждая весну за подмоченный мех. Медведица выбралась наружу, встряхнулась и замерла. Только ноздри ходуном ходят, отмечая знакомые и новые запахи. Из развороченной берлоги показались еще два носа, четыре глаза, боязливо сунулись обратно, напуганные столь непривычно ярким светом и сотней впечатлений, что за один миг вывалила на них весна. Так вот он какой, мир? Э, нет, ребятки, вы еще мира-то не видели. Давайте, вылезайте, он вас заждался уже.
Радостно встречал лес старых друзей, знакомился с новыми. Многим, очень многим, за зиму забытым, пришла пора вернуться в мир. Они и возвращались.
Человек в длинном плаще, стянутом на левый бок лямкой заплечного мешка, шел берегом Инаха вверх по течению. Шел не торопясь, осторожно продираясь через нанесенное паводком скопище коряг, прихрамывая на левую ногу и опираясь на толстую узловатую палку. В этом месте дорога лежала у самой воды, но сейчас она почти вся потонула в вязкой грязи, не пройти, не проехать. Вот и приходится обходить затопленные места, широкие крюки делать, через кусты лезть. И чего понесло в такое время? Подождал бы немного, втрое быстрее до цели добрался бы.
Он устал ждать. С момента своего второго рождения он только и делал, что ждал, в равнодушном бессилии провожая день за днем, месяц за месяцем. Поначалу равнодушном, а потом в агрессивном. Забавно, наверное, со стороны – агрессивно-деятельное бессилие. И так бывает. Смешно, да...
Потом он заново учился ходить, раздраженно отпихивая руку помощи: сам. Сусам. И мордой в грязь, неоднократно. На тебе колотушкой боли по ноге и по башке дурной. Зубы сжать, да все по новой. Сам.
Нога гудела, болью награждая хозяина за каждое движение. Попрыгал по кочкам.
"Ладно, сяду на пенек, съем пирожок".
Человек пристроился поудобнее на подсохшей коряге, предварительно постучав по ней палкой, выгоняя змей. Нет, никому, кроме него, заползти сюда не приспичило. Снял мешок, развязал. Ну, пирожка нету, но кусок хлеба, не слишком черствого, аккуратно в чистую тряпицу завернутого, найдется. Вытянул вперед больную ногу, блаженно зажмурился...
– ...теснее, ребята, теснее. Растянуться, как они, все равно не сможем, так и нечего растопыренными пальцами бить.
Земля содрогалась от топота тысяч ног. Воздух, как плетью, секли взвизги флейт. Цепь круглых щитов, ожерелье Паллады, приближалась. Ее невозможно охватить взглядом. Куда не глянь – прямо, налево, направо, кругом – всюду щиты, щиты, щиты...
– Какая честь нам, братья! – прогремел Танай, – сейчас мы сразимся с храбрыми гражданами афинскими! Смотрите, как бесстрашно они идут в бой! Вот с кого следует брать пример!
Македоняне рассмеялись.
Когда до горстки бойцов Таная оставалось не более пятидесяти шагов, фаланга остановилась. Она охватывала македонян широкой дугой. В центре афиняне, на флангах – их союзники.
Вперед вышел человек в дорогом панцире и шлеме. Полосатый черно-белый гребень мерно подрагивал в такт неспешной походки. Человек шел без оружия. Он не стал представляться.
– Македоняне! Сдавайтесь! Мы сохраним вам жизнь.
– Сегодня хороший день, – Танай мечтательно посмотрел на небо, – солнце светит, птицы поют. Кому в такой день захочется умирать?
Андроклид усмехнулся и чуть качнул сариссой в сторону врага:
– Вон, смотри, сколько дураков-то набежало.
– Вот и я о том, – Танай повысил голос, – афиняне, мы на вас зла не держим! Ошиблись, с кем не бывает, в следующий раз умнее будьте, не слушайте картавого! Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь!
Пешие друзья грянули хохотом.
Переговорщик побагровел, повернулся и зашагал прочь. Ему вслед полетели советы, как любящим мужам ловчее становиться раком.
Стена щитов вздрогнула, качнулась вперед. Танай перехватил сариссу и крикнул:
– Братья, помните, все вы – титаны!
Что есть человеческая жизнь? Полевой цветок, былинка, сорвешь, не заметишь. Но у иных цветов шипы есть и корнями они за землю цепляются так, что, пожалуй, скорее все ладони раздерешь в кровь, прежде, чем этот сорняк вырвешь.
...Чья-то оскаленная рожа...
– Ахрг!
Чавкающий звук раздираемой плоти.
Огромное, во все небо, красное солнце сжимается в точку.
– Все, как один!
Он еще может слышать, значит, жив? Значит...
Молот бьет по наковальне. Без гулкого лязга, совсем беззвучно. Ничего здесь нет, ничего...
...Едва различимое желто-зеленое пятно висит посреди черноты предвечного небытия уже тысячу лет, а может один вздох. По краям пятно переливается бледной радугой. Ни рук, ни ног. Вообще тела нет. Или все же есть? Вот бы глаза открыть, да на отливку век какой-то дурак свинец пустил. Ну-ка, поднатужимся...
Пятно сжалось в пляшущую рыжую искорку лучины, а в следующий миг оказалось, что и руки-ноги на месте. Вроде бы. По крайней мере, болят. Да еще как...
Небо с землей поменялись местами. Нет, нет!
Снова бесплотная тьма...
Холодно.
Свистит ветер, хлопает дверь.
Тишина.
– Сейчас дров подкину, согреемся.
Голос немолодой, мужской, хриплый.
Откуда он?
Дрожат веки, сопротивляются глаза тусклому свету. Для них он сейчас ярче тысячи солнц.
– Ты смотри! Очнулся, наконец! Ну, радуйся, парень!
Чья-то бородатая... Нет. Чье-то седобородое лицо. Радостное.
"Ты кто?"
– Сейчас, сейчас, напою тебя, как знал ведь, похлебки-то сварить! Сейчас, парень. На вот, пей.
Губ касается глиняная плошка с чем-то обжигающим.
Из глубины глотки вырывается выворачивающий наизнанку кашель.
"Ты кто?"
– Давай, пей, тебе силы нужны, а то вон, почти в скелет превратился.
"Он не слышит. Или я не могу говорить?"
Все силы в кулак.
– Ты... – снова приступ кашля, – кто?
Старика звали Поликсеном. Он наблюдал за битвой со скальной площадки на крутом склоне Каллидромона, возвышавшейся над местом последнего боя отряда Таная.
Когда сражение закончилось, победители удалились в свой лагерь, а на поле появились сотни рабов. Они выносили раненных и убитых воинов Союза, снимали доспехи с трупов врагов. Поликсен спустился с утеса и смешался с рабами. Он надеялся найти еще живых, а в случае неудачи, хотя бы вынести с поля тело командира македонян и предать его достойному погребению. Командира он нашел довольно быстро, афинские падальщики еще не успели добраться до него и снять панцирь и шлем с золотой полосой лохага. Македонянин лежал на спине, сжимая в правой руке, по рукоять красный меч, а в левой – обломок сариссы с острым подтоком. У ног его валялся разбитый в щепки щит. На теле лохага не было живого места, а лицо представляло собой сплошное кровавое месиво. Очевидно, после того, как он упал, афиняне изрядно поглумились над искусным воином, лично отправившим к Перевозчику более дюжины их товарищей.