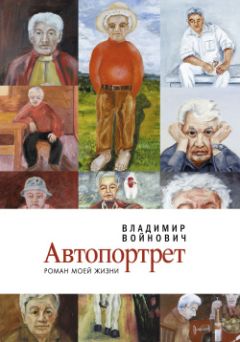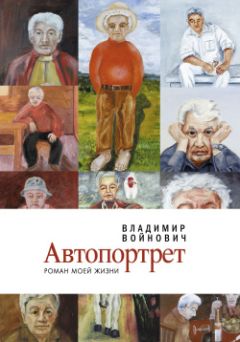Владимир Бабкин - Новый февраль семнадцатого
Добравшись до горящего двигателя, Марсель перекрыл краник трубопровода, прекратив тем самым подачу топлива, но бушующее пламя вплотную уже подбиралось к баку и был большой риск взрыва, в результате которого наш аэроплан, вероятно, просто разорвет на куски. Оба летчика принялись спешно тушить огонь.
В этот момент «Муромец» влетел в облачный слой. Бешеная болтанка трясла машину. Две фигуры на крыле пытались загасить огонь стоя с двух сторон пылающего двигателя, в то время как их самих воздушный поток жестоко хлестал снежными жгутами и пытался сбросить вниз. Внезапно облака прочертила ветвистая молния. Грохнуло так, что я прикусил язык, дернувшись от акустического удара, едва не выпав при этом в открытый люк. Но я удержался, а вот ноги Марселя Плиа вдруг соскользнули с крыла.
Уцепившись руками за стойку плоскости он пытался удержаться, в то время как его ноги беспомощно скребли по поверхности крыла, не находя опоры. Пламя подбиралось к нему все ближе, а Орловский, находясь по ту сторону горящего двигателя с огнегасителем в руках, не мог ему ничем помочь, не успевая даже приблизиться к месту падения.
Не отдавая себе отчет в своих действиях, я выбирался на крыло и, уцепившись за край люка, попытался перехватить руку моториста, однако пальцы мои не дотягиваются до него. К счастью в этот момент поток набегающего воздуха сдернул зацепившуюся за что-то веревку и каким-то чудом мне удается ухватить за нее. Однако тут я со всей отчетливостью понимаю, что вытащить Плиа одной рукой у меня никак не получится, а бросить край люка я не могу, иначе меня просто выбросит из аэроплана, а я-то даже не привязан к нему!
С какими-то неимоверными усилиями, и таща веревку за собой, я забираюсь внутрь кабины, где пытаюсь в раскоряку упереться ногами в края дверного провала. Когда мне это все же удается, вторая моя рука оказывается свободной, и я начинаю втаскивать моториста в кабину, боясь лишь того, что веревка эта может лопнуть в самый неподходящий момент.
Зря я грешил на веревку, подлянка поджидала нас не там! Аэроплан сильно тряхнуло и он начал заваливаться на бок, прямо на ту сторону, где был отрыт люк! И сквозь проем вижу, что винт второго правого двигателя замер неподвижно. У нас не работало оба правых двигателя! Вот я сглазил, рассказывая Горшкову про беспроблемный полет на одном двигателе! Типун на язык болтунам таким идиотским!
Благо я упирался ногами в края люка, а потому сумел удержать равновесие и не провалиться в открытый зев проема. А вот двум летчикам на крыле было совсем не сладко! Вцепившись в выпирающие части, они пытались удержаться на плоскости и хорошо, что Горшкову удалось выровнять машину и аэроплан все же принял относительно горизонтальное положение, хоть и с явным креном вправо и вниз.
Видя, что Орловскому все же удалось загасить горевший двигатель, Горшков прокричал мне:
— Пусть возвращаются! Починить двигатели мы не успеем!
Обернувшись к пилоту, я увидел перед собой просто фантасмагорическое зрелище.
Горшков в темной кабине, запредельным усилиями удерживая в штурвал, глядит прямо в бушующий за лобовым стеклом ураган, прорезаемый какими-то потусторонними сполохами и ослепительными вспышками молний. Георгий кричал, не глядя в мою сторону:
— Будем садиться! В нас попала молния и что-то повредила! Я не удержу машину! Пусть быстрее возвращаются! Еще минуты две-три и все! Быстрее! Я ищу место посадки!
Конечно, слышать ни меня, ни, тем более Горшкова, Орловский и Плиа не могли, но, видимо, будучи профессионалами своего дела, они сами все поняли и уже спешно двигались в сторону люка. Вот Марсель ухватился за край проема, вот он ухватил за руку Орловского, вот я помогаю им обоим влезть в кабину, успев подивиться тому, как Горшков собирается выбирать место посадки в условиях, когда не видно даже земли внизу.
Оглянувшись на лобовое стекло, с ужасом вижу приближающуюся землю, какое-то поле, какие-то строения прямо перед нами, а дальше, сразу за домами, черной стеной тянется лес.
И словно в замедленной съемке мы летим навстречу то ли этим самым строениям, то ли самому лесу. А я, как парализованный, смотрел, как сквозь молнии и вьюгу падает с неба наш ангел…
ГЛАВА 8. КОГДА ВЕЧЕР ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ТОМНЫМ
Роль личности в истории. Насколько характер одного или нескольких человек может изменить историю человеческой цивилизации? Или же, как уверяли классики марксизма, все решают законы развития общественных отношений? Думаю, что наверняка ответить на этот вопрос не сможет никто. Если, конечно, не оперировать догмами и лозунгами о «единственно верных учениях».
Как бы повернулась история России и человечества, если бы на престоле Российской Империи в 1916–1917 годах был бы не Николай II? Что было бы, если бы не было Распутина? Или окажись на месте генерала Хабалова более решительный человек, который не побоялся бы взять ответственность на себя? Или, как развивались бы события, если бы председателем Государственной Думы в тот момент был не Михаил Владимирович Родзянко? Или будь у Родзянко менее болезненное честолюбие?
Еще в 1911 году, став председателем III Государственной Думы, Родзянко начал усиленно привлекать к своей персоне внимание широкой публики. Часто именно в его личном особняке проходили совещания руководителей думских фракций и групп, заседания руководства партии октябристов и другие мероприятия нижней палаты парламента. Позднее, в июле 1914 года, патриотические манифестации специально задерживали у дома Родзянко, где демонстранты были вынуждены слушать его «напутствия».
Понимая, что его личный вес зависит от значения должности председателя Госдумы, Родзянко всячески выпячивал значение парламента и, соответственно, говорил от его имени. Часто это сводилось к ожесточенной пикировке с министрами и самим царем, которые, по его мнению, «унижали честь и достоинство» Государственной Думы.
Отстаивание всегда и во всем «чести и достоинства» представительской власти часто выливалось в отстаивание значения и его персонального статуса, как председателя Думы. Часто устраивались безобразные скандалы из-за недостаточно, по его мнению, статусного места в поезде или в театре.
Не менее колоритные спектакли устраивались на государственном уровне. Если Император не прислушивался к его словам, то на заседании парламента объявлялось, что «достоинство Думы оскорблено». Если же царь соглашался с мнением Родзянко, то громогласно объявлялось о его личной победе и авторитете.
С началом войны предполагалось, что о политике будет забыто, а думские сессии будут посвящены сугубо практическим вопросам войны и бюджета. Однако, такое положение дел не устраивало Родзянко и он делал все, чтобы оставаться в центре общественного внимания. Он часто посещал действующую армию и одним из первых поднял тему измены в высшем руководстве страны.
Весь период войны Родзянко различными способами выдвигал требования об отставке действующего премьера и о даровании Думе права самой формировать новое правительство «пользующегося доверием общества». Так на сессии Государственной Думы в ноябре 1916 года правительство, назначенное Императором, подверглось резким нападкам, и нагнеталась истерия в обществе по поводу «глупости или измены» власти.
К концу 1916 года положение на фронтах внушало здоровый оптимизм. Снарядный и патронный голод был преодолен. Армия доукомплектовывалась и готовилась к решающему наступлению весной 1917 года, который должен был положить конец войне и принести России победу.
Однако пока военные оркестры разучивали марш «Торжественный вход в Константинополь», в столице происходили события, которые должны были в ближайшие месяцы потрясти Россию.
Никакие уступки власти уже не удовлетворяли думских лидеров, желавших безраздельной и ничем не ограниченной власти. Всякий орган власти, всякий министр подвергался травле и самым безумным обвинениям. Со страниц думской и оппозиционной прессы эти настроения проникали в массы, проникали в войска на фронте. Результатом чего стало тревожное настроение в армии. Под давлением Государственной Думы министры менялись с такой скоростью, что это явление получило название «министерской чехарды».
К 1917 году Родзянко стал одним из самых публичных политиков. Без его участия не обходилось ни одно крупное событие, мероприятие или торжество. И ни одна манифестация. Как вспоминала его супруга: «… Он положительно один для борьбы со всеми темными силами, и все напуганные обыватели, начиная с великих князей, обращаются к нему за советами или с вопросом: когда будет революция?»