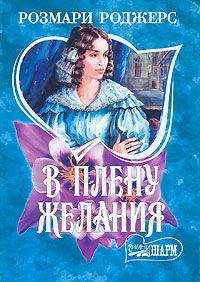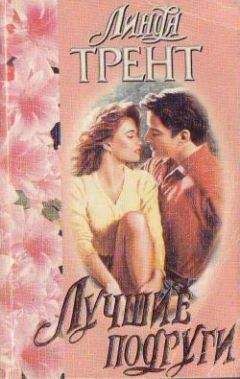Андрей Дай - Поводырь. Часть вторая.
Самых младших, детей десяти-тринадцати лет, забрали родственники. Они еще не были пропащими для крестьянского дела людьми. Их еще можно было попытаться чему-то научить. Но таких в селении было совсем мало.
Оставались еще бывшие приписные, а ныне лично свободные урочники. Летом они занимались обычным земледелием или охотой, а зимой отрабатывали выданную администрацией лошадь, перевозя руду с рудников на заводы. Теперь, когда рудный урок с них был снят, коней естественно забрали. Юргенсон хихикал, заставляя меня сжимать зубы, чтоб не брякнуть что-нибудь лишнее, рассказывая, как нынешней весной урочники пахали свои жалкие наделы на коровах или впрягая жен с дочерьми…
— …А я, знаете ли, Ваше превосходительство, этому четвертиночку, тому и того поболе, добавлял. Деток, знаете ли, жалко-с. Голодом-с же помрут, коли домна не горит. Ну, там, и благодарение от крестьянушек бывало. Как же иначе-с!
— Да вы, батенька…
Господи, как его назвать-то? Скотина? Так не поймет. Он ведь действительно сравнительно добрый человек. Сравнительно с теми, кто придумал детей от живых родителей отбирать, да в чад примитивных цехов совать. Революционер? Так ничего он не изменил. Подачки его — это вроде милостыни нищему на паперти.
— Да вы, батенька, социалист! — наконец подобрал я слово, оказавшееся вполне знакомым моему собеседнику:
— О! Ваше превосходительство! Я тоже в вашем возрасте увлечен был трудами месье Пьера Леру! Весьма, знаете ли, благостно… Да-с… Вот помнится, прибыли мы в одну весь, мужичков-углежогов править…
Прода
Господи-Боже Всемилостивый! Как же мне было противно его слушать! Социальная справедливость в отдельно взятом, до самых корней феодальном уделе, со слов Юргенсона, получалась какой-то… мерзопакостной. Судилище, когда мужик сиволапый, хоть и правый по закону, оставался мужиком. И от этого, наказание получал на пять плетей меньше…
Конечно, я в прошлой своей жизни, тоже ангелом воплоти не был. Воровал казенные деньги, облагал поборами коммерсантов, брал взятки и поплевывал с высоты своего положения на простой народ. Но я, хотя бы не отбирал детей у родителей и не порол земледельцев батогами. И в то, мое время суды, чаще всего, решали дело в пользу властьимущих. Смазливые свиристелки — подстилки реальных папиков, в хлам пьяные за рулем дорогущих авто сбивали насмерть людей, и отделывались условными сроками. Но — это, хоть какое-никакое, а наказание. Потерпевших же не пороли в гаражах, просто потому, что они не сподобились залезть на самый верх. Ну, или в постель к тому, кто на самом верху.
Конечно, постсоветская как бы демократия — тоже не идеальный общественный строй. Больше того, выборная система сама по себе провоцирует чиновников на злоупотребления. Но то, что творилось тут, в шестидесятых годах девятнадцатого века — это вообще что-то немыслимое. Все мои, нежно лелеемые грезы о справедливом, заботливом царе — отце народа, разбились об айсберг отвратительнейшей реальности.
Страна Советов — тоже тот еще гадюшник. Партийная номенклатура — вообще себя другим каким-то народом считала. Жила как-то по-другому, как-то сама себя судила. И все втихаря, чтоб сор из избы не выносить. Газеты вон какие красивые слова печатали. Все на благо народа… Только не уточняли — какого именно… Попал я как-то в дни студенческой молодости в квартиру одного видного деятеля. Сравнил с родительской двушкой в хрущевке…
Во времена СССР много говорилось о страданиях несчастных угнетенных американских негров. Фильмы снимались, книги печатались, как империалистические эксплуататоры издевались над тысячами привезенных из Африки рабами. Едрешкин корень, да это детский сад, ясельная группа по сравнению с миллионами крепостных русских крестьян. И пусть теперь, в 1864 году, они уже формально свободны. Только в головах таких вот, феодальных социалистов, ничегошеньки не изменилось. Нельзя продать или детей отобрать? Фигня! Годик от голода помучаются — сами прибегут! Сдохнет пара тысяч? Снова фигня. Бабы еще нарожают. Чай дурное дело — не хитрое…
И так у меня сердце сжалось, так горько стало и как-то безысходно, таким темным и беспросветным мир вокруг сделался, что я минуты две мысли в кучу собрать не мог. Смотрел на что-то мне докладывающего казака — посыльного, каждое слово отдельно — понимал, а все вместе как-то не складывалось.
Ну, повылазили злодейские стражники из своей "крепости", ну порубали их шашками. От меня-то чего нужно? Я что ли их должен опознать? Так я их прежде в глаза не видел. Бегали вчера от верховых с нагайками по полю какие-то личности в коричневых мундирах, так я лиц их не разглядывал…
Да и вообще… Оставьте меня в покое! С чего это я должен лбом в стену долбить? Господь, в своей бесконечной мудрости, дал мне вторую жизнь. Так чего теперь?! Мне каждого крестьянина ублажать? Всех спасать и в Светлое Будущее вести? А вот этакие Юргенсоны вдоль моей дороги стоять будут, и мерзости свои обделывать? Так я в Иисусы не записывался!
Кое-как собрался. Было все еще… гадко. Но хотя бы мозги шевелиться начали.
— Сотник пусть мне рапорт пишет. И этого вот… господина Юргенсона в свидетели. Лолий Васильевич не откажет в такой малости. Так ведь? — я взглянул прямо в глаза расслабившегося на солнышке горного чиновника. И видимо было что-то такое в моем взгляде, от чего "социалист" не посмел мне возразить. Дернулся только, словно током ударенный, заторопился нервными пальцами воротник мундирчика застегнуть, и потом только кивнул. Несколько раз подряд.
— Я проверю, — рыкнул на прощанье и легко вскочил в седло подведенной Апанасом Принцессы. — В лагерь. Утомился я.
Хотел еще добавить: "мне еще с быдлом разговаривать". Но не стал. Не понял бы никто моего сарказма. Не могут здесь еще так к человеку относиться, как он этого достоин, а не какое положение занимает. Один я здесь такой. Не правильный.
В Томь-Чумыше вода какая-то коричневая. Такая бывает в бочках с дождевой водой, что собирают дачники для полива особенно ценных пород редиски. Казалось, вот вглядишься повнимательнее в эти струящиеся глубины, и станет видно дно. И рыбу с раками.
А еще бесконечный поток хорошо смывает дурные, тяжелые мысли. Течет и течет мимо, бесконечная, как само Время, река. И под это ее течение, не получается думать о чем-то определенном. Мысли скачут, перепрыгивают с пятого на десятое. И уносят, уносят, уносят бессилие и беспросветность эпохи. И этой, жестокой и надменной унесут, хочет она этого или нет…
Да, ты прав, Герман. Козлы они все и не достойны наших усилий. Сволочи и подонки, однозначно. Только кем мы-то с тобой, друг мой ситный, будем, если сейчас руки опустим? Если знаем что делать и как, да не сделаем, побоимся болото это взбаламутить? Такими же жабами пупырчатыми станем, и квакать станем такие же благоглупости, как тот "социалист"… А потом, в старости, если конечно суждено нам с тобой до нее дожить, оглянемся, и что? Посмотрим на эту заросшую мхом и обильно политую кровью страну, и что? Радостно нам от зрелища будет? Ворчать по стариковски начнем — вот кабы я… А потом, в Чистилище… Бр-р-р-р… Еще триллион лет безнадеги и бесконечность мыслей — что я мог бы сделать…
Играет солнце бликами. Золотит слабые волны. Несет река искры света.
Крикнул слугу. Велел нести сумку с письмами. Работать нужно, а не о судьбах мира размышлять. Лапками молоко в масло сбивать, а не тонуть вместе со всеми в этом дерьме. Чтоб потом не было бесконечно горько…
Взял в руки до сих пор не распечатанные конверты. Их не так много осталось, если конечно не считать те полмешка, где сплошные прошения и кляузы. Четыре всего. Из МВД, МИДа, из администрации АГО — от Фрезе, и письмо Гинтара. Но, даже не вскрывая, знал, что ни в одном из них нет того, чего я действительно очень хотел бы знать. Ни слова о судьбе Николая Романова — Наследника Императорского престола. И, что самое забавное — о моей собственной судьбе…
А, впрочем… Плевать. Поди, не казнят. Я же не разбойник какой-то. За моим Герочкой такая толпа господ приближенных ко двору имеется, что максимум мне грозящее — тихая отставка и ссылка куда-нибудь в Туркестан. Ну и что? Там тоже люди живут. И тоже можно заводы строить…
В крайнем случае есть ведь еще заграница… Хотя, это уж совсем крайний случай. Там тоже не все в порядке и в двадцать первом-то веке было, а сейчас и подавно. Демократии, блин. Кто-нибудь слышал, чтоб судили американского сенатора? Или английского пэра? У себя на родине, я имею в виду. У меня адвокат в той жизни был — ну так, на всякий случай — Иван Семенович Думбадзе. Шустрый такой мужичек, не спокойный. Родня у него по всему миру расползлась, так он каждый год на месяц-два кого-нибудь из родственников навещал. Все искал — где трава зеленее. Порассказывал как-то под шашлычок с вином. И о изгибах французской юриспруденции, и о американской адвокатской справедливости. О ювенальной юстиции в Швеции и английском прецедентном праве. Конечно, об иностранном общественном устройстве поговорили. Я было, спорить кинулся, "оплот демократии" в пример приводил, пока он вопрос не задал: мол, знаю ли я — какой процент населения США имеет право голоса на выборах? Оказывается, выбрать своего президента эта страна доверяет чуть меньше чем шестистам выборщикам. Четыреста с лишним тысяч человек на одного выборщика! Прикольно, как говаривали мои племянницы. Совсем не просто в чем-то убедить двести пятьдесят миллионов совершенно разных людей. Шестьсот — совсем другое дело! Причем борются-то всего две партии. Одна за то, чтоб брать с богатых побольше налогов. А другая — чтоб не брать. Вот и вся разница. Вот вам и оплот демократии.