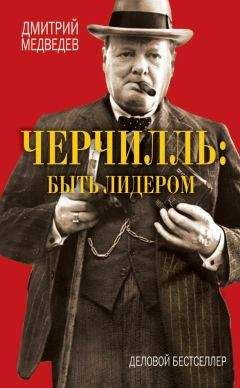Руслан Галеев - Каинов мост
На журнальном столике стояли две кофейные чашечки, кофейник и блюдце с крекерами. Между ними — объемный конверт из твердого пластика размером примерно двадцать на двадцать сантиметров плюс сантиметров семь в глубину. В том, что это был мой груз, я не сомневался.
— Присаживайтесь и наливайте себе кофе, — предложил Мандаян, усаживаясь во второе кресло, — у меня еще осталось минут двадцать…
Правда, для вас это скорее пятнадцать…
— Что вы имеете в виду? — спросил я, наливая себе кофе.
— Вот это, — спокойно сказал Мандаян, задирая рукав. В его руку чуть ниже локтя был вмонтирован маленький жидкокристалический экран. На моих глазах 22:14 превратились в 22:13, а потом в 22:12…
— Что это?
— Это… цена, — ответил Мандаян и пожал плечами. — За все приходится платить. За власть, за деньги. За удовольствия. За право быть самим собой. Но вас должен интересовать груз. — Он кивнул на пластиковый конверт, потом неторопливо отпил кофе и добавил: — Имя адресата на обратной стороне.
Я протянул руку, взял конверт, перевернул его и прочитал имя адресата. Перечитал еще раз. Пожал плечами. Конверт должен был получить бывший курьер, бывший куратор моих «трех нулей», бывший мой враг. Человек из прошлой жизни. Ничего особенного, обычный трип. Бизнес есть бизнес.
— У вас прекрасный кофе, — сказал я, положив конверт на колени.
— О, — улыбнулся Мандаян, — вы даже приблизительно не можете представить себе, насколько он прекрасен.
— Наверное, это нелегко…
— Нелегко, — кивнул Мандаян, — но безысходность и философское мировосприятие многое меняют, поверьте мне. К тому же я сам выбрал свою судьбу.
— Расскажете?
— А вам интересно?
— Чертовски.
— Ну что ж, — Раймон Мандаян пожал плечами, — теперь уже, наверное, можно.
Нет, он не был бизнесменом. Он был выдающимся ученым, человеком, создавшим социо-экономическую теорию. Великую теорию. Сути ее я узнать не захотел. Да и не в сути дело. Когда Раймон Мандаян опубликовал свой труд, нашлись люди, которые поверили ему. Очень богатые люди, мечтавшие стать еще богаче. Они предложили Мандаяну деньги, чтобы он воплотил теорию в жизнь, испытал ее на практике. Но вкладчики совершенно справедливо опасались, что в случае удачного завершения эксперимента Мандаян станет слишком могущественной фигурой. Недосягаемой. А им хотелось не просто вложить деньги и убедиться в действенности теории Раймона Мандаяна, но и вернуть себе во много раз увеличившийся капитал. И гарантией этого стал контракт, официально распределяющий имущество Раймона Мандаяна после его смерти, а также вживленный в его тело экран, который отсчитывал в обратном порядке время. Деньги – это все, что их интересовало.
— А меня интересовали люди, их сила, их сопротивляемость методам управления. Если бы у меня было хоть немного больше времени хотя бы столько, сколько мне обещали… Но… — Раймон Мандаян грустно пожал плечами, — они меня обманули. И времени заложили меньше, чем было обусловлено нашим договором.
— Но вы же богаты. Разве нельзя было избавиться от этого?
— Нет. Это управляется дистанционно, и я так и не смог узнать, откуда. Но я не остался в долгу. — Мандаян по-мальчишески улыбнулся и постучал пальцем по виску. — Да, я не остался в долгу. Видите ли, они действительно получат все, что я имею, — вот эту квартиру. А больше у меня нет ничего. Они плохо изучили мою теорию, очень плохо. Этот конверт тоже не мой. Когда-то давно мне передал его тот, к кому он теперь должен вернуться. Мой единственный друг. Такой же, наверное, одинокий как я.
— Я знаком с ним.
— Да. Я знаю. Он просил передать, что тут, внутри, ваша первая скрипка. Не знаю, что это значит, просто…
— Я знаю, — кивнул я, ставя чашку на стол. — Сколько осталось времени?
Мандаян снова завернул рукав, посмотрел на циферблат своих жутких часов и ответил:
— 17 минут. Целая вечность.
— Хотите, я почитаю вам Элюара?
— Почему бы и нет?…
Я живу в странном мире, слишком грязном, чтобы быть привлекательным, и слишком прекрасном, чтоб заслужить мое прощение. Однако кто я такой чтобы брать на себя право прощать или не прощать? Просто человек, бредущий от подъезда к припаркованному у тротуара «Трабанту» в ожидании глухого хлопка взрыва в квартире самого богатого человека планеты, так похожего на профессора романо-германской филологии… Я не могу точно определить собственную роль в происходящем. Я даже толком не знаю, есть ли она — моя роль. Просто иду к припаркованному «Трабанту» и думаю об этом странном мире. Знавал я некогда мудрейшего человека, написавшего как-то, что мир не просто грязен — он принципиально грязен, он унавожен грязью, и именно из такой почвы может прорасти что-то достойное… Там было еще что-то написано, но кровь и мозги мудрейшего человека делали все остальное не подлежащим прочтению. Он нашел самый верный способ унавозить почву. Самый кардинальный. «Профессор» Мандаян, впрочем, тоже.
И вот стекла секут асфальт. Они предназначены не для этого, но и человеческое тело не предназначено для того, чтобы в него встраивали циферблаты, отсчитывающие время в обратном порядке. Я иду к своему потрепанному «Трабанту» и думаю, понравились ли стихи Элюара профессору (отныне я стану называть его так). А еще о том, что вот ведь как получается: профессора только что разнесло на части, и ему уже все равно, читал я ему перед смертью Элюара или нет, а я иду и думаю о стихах, прочитанных человеку, в теле которого несколькими минутами позже сработал детонатор.
Где-то за домами снова проносится с неунывающим звоном трамвай. Я думаю о том, что юность равнодушна, и в этом ее неоспоримая прелесть. Перешагнув через тридцатилетний барьер, равнодушие можно только изображать. Я думаю о том, что это нелепо: посреди квартиры, в которой человек появляется раз в год, висит подлинник (теперь-то я в этом не сомневаюсь) Дега. Его никто не видит, он впитывает пыль, темноту и тишину и раз в год радует глаз хозяина. И в этом, как ни странно, есть какой-то смысл. Мне его не понять, ну и черт с ним. А потом хозяина Дега разносит к чертям, его мозги, внутренности и прочее вылетают из квартиры вместе с осколками стекла, обломками мебели и обрывками книг, но за несколько минут до этого другой человек снимает Дега со стены, практически спасая его… Но в этом уже нет смысла. Это уже нелепо… Как будто Дега писал эту картину только для того, чтобы она висела в пустующей московской квартире… И ведь самое страшное, что я почти верю: Дега писал именно для этого… Мимо меня по тротуару стремительно проползает масляное пятно милицейского маркера — туда, где падают осколки. Я сажусь в «Трабант», пристраиваю Дега на заднее сиденье, туда же кладу пластиковый конверт с именем человека из прошлого, завожу мотор…
Можно покурить. Можно вернуться в Контору и немного поспать. Можно взяться за новый трип, поскольку этот не имеет точной даты завершения и от меня никак не зависит.
В последний момент я вспоминаю, что забыл у профессора своего Элюара. Я смотрю в зеркало заднего вида и вижу уголок багета Дега. Я думаю о том, что это не очень честный обмен, но уже ничего не могу изменить. А вы, профессор, и подавно.
Я не поехал в Контору, я вырулил из дворов на проезжую часть, сместился в средний ряд и погнал «Трабант» вдоль трамвайной линии. По встречке пронеслось несколько траурночерных карет скорой помощи. Запах аммиака сползающихся маркеров преследовал меня несколько кварталов. Я ехал и думал, что ведь никто кроме меня не знает, что за человек погиб в той скудно обставленной квартире. Даже если им удастся определить внешность погибшего, это ничего не даст. Ведь хозяин «РайМан» — уродливый карлик… «Так об этом пишут газеты, а газеты всегда правы» (Константин Кинчев). Город был цинично-прекрасен и, пропуская сквозь частые сети проводов солнечные лучи, ловко подставлял под них угловатые плечи зданий, редкие кроны деревьев, полупрозрачные купола остановок, — все, что попадалось под руку, и превращал обычные тени в произведения искусства. В какой-то момент трамвайные пути свернули в узкий переулок, увенчанный «кирпичом», а проезжая часть увела меня в другую сторону.
Прошла минута, потом другая, и я забыл и о профессоре, и о Дега, и о превратностях жизни. Я ведь один из сегментов этого города, его биологическое подобие, созданное по его образу. А в этом городе не принято думать о чужой смерти слишком долго. Нужно думать о своей жизни.
— Как считаешь, — пробормотал Библ, опуская солнцезащитный козырек, — долго такая жара продержится?
— В следующий раз появляйся не так внезапно, будь другом. Чертовски, кстати, непривлекательно выглядишь. Что-то случилось?
— Да нет… Но жара эта… тело разлагается быстрее. Намного быстрее. Это ты взорвал Мандаяна?
Ленинский был на редкость пустынен в этот час, и разнокалиберные витрины по обе стороны проспекта отражали только друг друга, рекламные плакаты да размытые очертания моего «Трабанта». Библ скормил магнитоле диск «Radiohead», закурил мою сигарету, чуть опустил спинку кресла. Я усмехнулся: