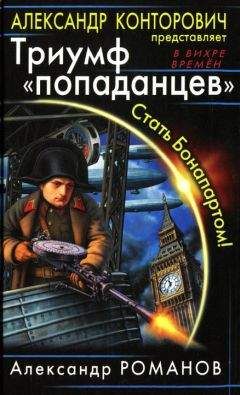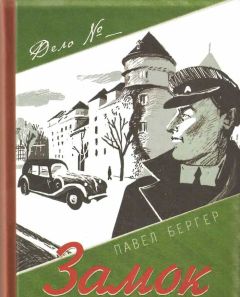Роман Злотников - Кадры решают всё
– Но… я же… он же… это же все капитан Куницын. Я же только…
– Капитан никуда от нас не уйдет, – жестко отрезал главный хирург РККА. – Я тебе гарантирую, что как только этот твой капитан выйдет из немецкого тыла, я сразу же добьюсь того, чтобы его откомандировали ко мне… – тут он осекся, как видно вспомнив все перипетии своего общения с НКВД по поводу капитана, но затем, все-таки, решительно кивнул: – Добьюсь. Хотя бы на некоторое время. Но нам к тому моменту надо быть готовыми к тому, чтобы воспринимать его науку не как ритуал, то есть не как нечто, что мы можем сотворить, но ни грамма не понимая, как оно работает, а именно как науку. То есть понимая хотя бы что-то.
– Но… разве нельзя этим заниматься здесь, в Киеве? – робко спросила Вилора.
– Если бы не было войны – то можно, – вздохнул Николай Нилович, – а сейчас – это прифронтовой город, к которому рвутся немцы, рядом с которым идут тяжелые бои и на который совершает налеты немецкая авиация. Так что здесь можно немного лечить раненых и готовить их к отправке в тыл. А вот заниматься научным исследованием шаманства здесь невозможно. Увы!
Однако уехать на следующий день им не удалось. Прооперированному генерал-лейтенанту ночью стало хуже, и Николай Нилович провел у него весь следующий день. Вилору тоже к нему вызвали, проводить общеукрепляющую схему. Ну и кроме этого она еще обработала около сотни вновь поступивших раненых. Так что в Москву они тронулись уже на следующий день. С военно-санитарным поездом.
Ради главного хирурга РККА начальник поезда, военврач первого ранга Котлярковский даже уступил им свое купе. Так что доехали, считай, с комфортом. Хотя Николай Нилович где-то до часу ночи ходил с Котлярковским по поезду, осматривая раненых. И вернулся только когда они добрались до Ромн, где от поезда оцепили паровоз и погнали к водокачке на заправку. Сам же Бурденко почти полчаса проторчал в здании вокзала, связываясь с Москвой и отдавая приказания по завтрашней встрече раненых и распределению их по медучреждениям. Так что когда он, наконец, добрался до купе, Вилора, увидев его, ахнула и всплеснула руками.
– Ой, Николай Нилович, ну что же это вы?! Вы только посмотрите на себя – на вас же лица нет. Зеленый весь!
– Ну вот, еще одна Мария Эмильевна нашлась, – добродушно усмехнулся Николай Нилович, однако шинель с себя он стянул с трудом, после чего просто рухнул на полку напротив девушки и, сняв очки, устало потер руками виски. Вилора же с тревогой смотрела на него. Видно было, что генерал устал, очень устал – бледность, мешки под глазами, красные глаза в прожилках, да еще… рука вот дрожит. Ну, да еще бы – позавчера тяжелейшая операция, вчера тоже ночь-заполночь возился с прооперированным генерал-лейтенантом, и сегодня весь день на ногах. И даже после отъезда до сих пор по поезду ходил, раненых смотрел. А потом по телефону ругался.
– Вот что, Николай Нилович, – категорично заявила Вилора, – давайте-ка, ложитесь, я вам общеукрепляющую схему поставлю.
Бурденко несколько оторопело посмотрел на нее, а затем сердито нахмурился.
– Вот что, милочка моя… – недовольно начал он, но девушка упрямо вздернула подбородок.
– И не спорьте даже. Вы вот мне рассказывали, сколько я своим шаманством человек вытянуть смогу… так я вам сейчас то же самое говорю! Вы посмотрите на себя – еле живой и руки трясутся. А ведь не мальчик уже. А ну как вас инфаркт или инсульт свалит – сколько бойцов и командиров без вашей помощи останутся? Страшно подумать! И каких командиров! Вот если бы вас вчера в Киевском госпитале не было – наша армия целого генерал-лейтенанта лишилась бы! А его даже во время войны за полгода, как лейтенанта, не выучишь! Так что давайте-ка быстро раздевайтесь и ложитесь. Я вас быстро обработаю, пока поезд еще стоит.
Николай Нилович удивленно посмотрел на Вилору, немного подумал, а затем махнул рукой.
– Ну, шут с тобой. Столько уже со стороны смотрел, как ты людей протыкаешь, – пора и на себе попробовать. Делай[63]!..
Едва они въехали во двор большого, помпезного здания, внешне больше напоминавшего дворец, чем лечебное учреждение, как к их машине тут же устремились люди.
– Николай Нилович, добрый день, с возвращением! А вот тут у меня…
– Николай Нилович, с возвращением, мне тут запрос…
– Николай Нилович, мне срочно нужно…
– Николай Нило…
Вилора, выбравшаяся из машины вместе с Бурденко, оказалась мгновенно оттеснена от него всей этой толпой и растерянно остановилась, не зная, куда дальше идти и что делать.
– Товарищ Сокольницкая…
Она оглянулись. Рядом с ней стоял Петруша. Вид у него был весьма забавный. Похоже, он изо всех сил пытался выглядеть попредставительней и… ну… погрознее что ли, но получалось это у него, прямо скажем, не очень. Смешно у него получалось, честно говоря. Особенно забавно выглядели уши, торчащие из-под фуражки.
– Николай Нилович мне уже вчера отдал все приказания насчет вас, – солидно произнес старший военфельдшер. – Так что пойдемте, я вас провожу.
– Куда?
– Ну-у-у… в строевую часть. Там встанете на довольствие. У вас есть где в Москве остановиться?
– Н-нет, – еле заметно запнувшись, мотнула головой Вилора. В принципе, вероятно, можно было попытаться решить этот вопрос. У папы в Москве было много друзей и знакомых. И они с папой даже несколько раз останавливались у них, когда приезжали в Москву. Причем пару раз уже после смерти мамы, в то время, когда девушка уже была вполне взрослой, чтобы запомнить адрес. Но это было еще до того, как папу арестовали. А как к ней эти люди отнесутся теперь – неизвестно. И проверять это ей совсем не хотелось.
– Тогда после строевой зайдем к сестре-хозяйке, получим у нее ордер на койку. Ну а потом я отведу вас к вам в кабинет.
– Но… – Вилора растерянно посмотрела в сторону дверей, за которыми исчез Николай Нилович, окруженный многочисленной свитой, – я бы хотела…
– Бесполезно, – с видом старого опытного делопроизводителя произнес Петруша. – Это теперь, считай, до обеда. У нас так всегда после того, как товарищ генерал с фронта возвращается.
– Ну, тогда пойдемте, – вздохнув, сказала девушка. Вот так и началось ее пребывание в Москве.
10
Обершарфюрер СС Густав Ойбель был вполне доволен своей службой. Ибо он надел форму вовсе не потому, что мечтал о подвигах или там о великой славе. Отнюдь нет. Он надел форму для того, чтобы хорошо устроиться в жизни.
В Германии всегда с большим пиететом относились к военной форме. Человек в форме почти во все времена пользовался в обществе большим уважением. Но раньше к этому уважению прилагался еще и риск быть убитым или искалеченным. О, Густав знал это получше многих. Он узнал об этом в окопах прошлой войны.
Ойбель попал в армию только на третий год войны, когда «увернуться» от призыва уже никак не получилось. Ну не воинственный он был человек… И, вернувшись после поражения Германии домой, в родной Эберсберг, маленький городок, расположенный в тридцати километрах от Мюнхена, Густав довольно долгое время изо всех сил избегал возможностей вновь надеть форму. Но… все изменилось, когда военную форму надели политики. О, да! Ойбель еще в далеком тысяча девятьсот тридцатом понял, что это – шанс. И что теперь, даже такому не очень воинственному человеку, как он, вполне можно надеть военную форму, не сильно при этом рискуя. Более того, при этом его еще и будут считать храбрецом, настоящим немцем и вообще солью нации.
С той поры прошло не так много времени, но все расчеты Густава уже успели не раз оправдаться. Нет, он не заслужил много наград. Их у него было всего две, и среди них ни одной боевой. Но зато какие! Если по поводу первой – «Аншлюс-медали»[64] кое-кто еще мог бы покривить губы, то зато вторая – шеврон старого бойца[65] служила предметом зависти очень и очень многих. А весь вопрос состоял всего лишь в двух месяцах. Промедли Ойбель со вступлением в НСДАП[66] всего пару месяцев – не видать бы ему этого шеврона как своих ушей. Но – успел.
На получаемое им жалование, вместе со всеми надбавками, положенными ему как ветерану партии, а также кое-какими другими побочными доходами (а что поделать – маленькому человеку, дабы заработать себе на жизнь, приходится крутиться), Ойбель выучил сына и пристроил его в ту же структуру, в которой подвизался и сам. Сейчас его мальчик, так сказать, отдавал долг рейху в одном из новых концлагерей, комплекс которых в прошлом году развернули неподалеку от Аушвица[67], в «возвращенных землях»[68]. А также выдал замуж обеих дочек и обзавелся скромным, но уютным собственным домиком на окраине Мюнхена. Густав любил свою семью, своих детей и всегда старался дать им самое лучшее…
Восточный поход фюрера Густав весьма одобрял. А что – годы идут, и уже пора присматривать местечко, где можно провести тихую и спокойную старость. И в этом смысле Ойбелю пришлись по душе планы фюрера по немецкой колонизации вновь присоединяемых земель. Он всегда мечтал о собственном фольварке. В мечтах ему грезились большой дом, крытый аккуратной черепицей, конюшня, новомодный машинный двор с парой тракторов, грузовичком, локомобилем и блестящей лаком легковушкой для собственного выезда, овин, амбар, коровник, овчарня, птичник. Непременно, тихий, уютный яблоневый сад. Пруд. Голубятня. А что – нежнейшая птица, если уметь ее готовить! Три-четыре десятка батраков из местных, которым великий немецкий фюрер принесет свет европейской цивилизации, вполне довольных своим существованием. Густав же не зверь, и не собирается морить усердных работников голодом или издеваться над ними беспричинно. Ну а тех, кто не будет усердным… пастор всегда говорил: «Поощрять лень и нерадивость работника – губить его душу». А Ойбель – добрый католик и никак не может себе позволить оставить без помощи того, над кем дамокловым мечом висит опасность сгубить свою бессмертную душу…