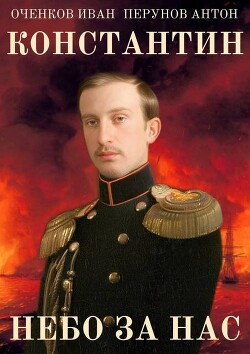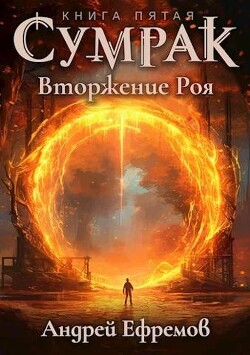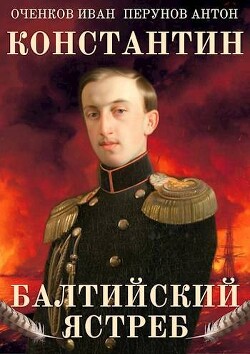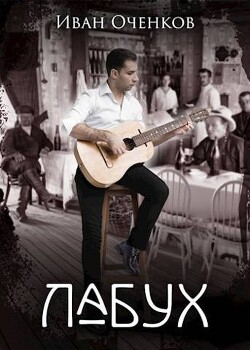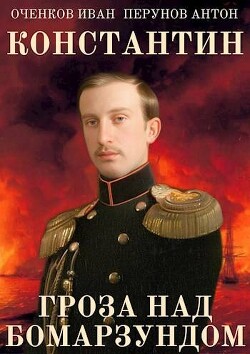Вторжение (СИ) - Оченков Иван Валерьевич
— Что я мог сделать с одним полком против целой армии? — вскинулся Халецкий.
— Спросите у казаков. В двух их полках людей меньше, чем в одном вашем, но, тем не менее, они как-то справлялись. Уж обстрелять-то врага можно было?
Ответом мне было красноречивое молчание. Уж в больно щекотливой ситуации оказались сухопутные начальники. С одной стороны, спорить с великим князем себе дороже. С другой, эдак моряки скоро армии совсем на шею залезут и понукать станут…
— Что вы предлагаете? — мрачно поинтересовался Меншиков.
— Свести все конные части под начало толкового командира, заслужившего свой авторитет не на парадах, а в реальном деле. В этом случае может, что и получится.
— Вы часом не про войскового старшину? — с невинным видом поинтересовался Бутович, намекая, что производство Тацыны еще не утверждено государем.
— Хорошее предложение, — усмехнулся я. — Кстати, кто помнит, партизана и поэта Давыдова, за что из генералов разжаловали? За дерзкие стихи, или просто болтал много…
Намек получился весьма прозрачным, ведь Давыдов служил как раз-таки в гусарах. [2] Я же обо всей этой истории узнал еще в детстве, читая жизнеописание Дениса Васильевича.
— Склонен согласится с предложением его императорского высочества, — процедил своим неприятным голосом Меншиков. — А потому полагаю полезным, чтобы командование кавалерией принял… генерал-лейтенант Кирьяков!
— Благодарю за доверие, ваше сиятельство! — поблагодарил тот.
— Если, конечно, Константин Николаевич не против…
— В общем, нет. Но кто же заменит Василия Яковлевича на левом фланге?
— Н-да. Дилемма, — изобразил задумчивость светлейший, после чего сделал вид, что его осенило. — А может ваше высочество примет на себя эту ношу?
— А ведь у французов 3-й дивизией командует принц Наполеон Жозеф! — воскликнул генерал Жабокритский, очевидно, считая нашу возможную встречу на поле боя забавной.
Наверное, мне вообще не следовало принимать во всем этом участия. Несмотря на то, что позиции наших войск подготовлены гораздо лучше (по крайней мере, я на это надеюсь) чем в моем варианте истории, начальство ничуть не изменилось. Так что это сражение мы, с большой долей вероятности, проиграем. И тогда Меншиков вместе с генералами, не моргнув глазом объявят о том, что виной всему мое безграмотное вмешательство!
Но уехать, оставив армию перед первым большим сухопутным сражением в Крыму, а по большому счету и во всей войне, просто не смог. Потом пусть говорят что хотят, но я должен хотя бы попытаться. И вот теперь светлейший поймал меня как мальчишку «на слабо». Думает, струшу?
— Не вижу препятствий, Александр Сергеевич. Если, конечно, полки 17-й и 13-й дивизий останутся на позициях.
— О, нет, у вовсе меня нет намерения оставлять вас без войск.
— Значит, решено.
Если честно, для меня осталось загадкой, для чего было отрывать генерала от своих войск и направлять его командовать незнакомыми частями. Хотелось надеяться, что это произошло отнюдь не в результате моего вмешательства. [3] Но в любом случае что сделано, то сделано.
Но к величайшему сожалению, результата эта рокировка не принесла, хотя утро следующего дня началось с рекогносцировки союзников, для чего в поле вышла их единственная кавалерийская часть, точнее соединение. Та самая знаменитая в моем будущем «Легкая бригада». К счастью или, к сожалению, это уж кому как, далеко не в полном составе. По два эскадрона из каждого входящего в нее полка. Всего около тысячи сабель.
К Кирьякова же под началом оказалось два гусарских и четыре казачьих полка (включая подошедшие на днях с генералом Хомутовым из восточного Крыма полнокровные шестисотенные 53-й и 60-й), две конные и одну ракетная батареи, общей численностью более шести с половиной тысяч человек. И, тем не менее, он не решился действовать самостоятельно, а послал ординарца к Меншикову.
Пока взявшийся за это дело штабс-капитан Органский добирался до расположившейся на холме, названном впоследствии из-за находящейся на нем вышки «Телеграфным», пока светлейший обдумывал ответ, схватка началась сама собой.
Сначала развернула свои орудия конно-легкая батарея № 12 и открыла не слишком точный огонь по противнику. Англичане немедленно начали ответную пальбу, также не отличавшуюся особой меткостью. Впрочем, долго эта перестрелка не продлилась. Сначала замолчал противник, а вскоре его примеру последовали и наши.
Тогда в дело снова вступил Тацына. Привыкнув за последнее время действовать без оглядки на начальство, он приказал выдвинуть вперед ракетную батарею и начать обстрел вражеского лагеря. Конечно, при свете дня ракеты выглядели гораздо менее эффектно, меткости у них тоже не прибавилось, но время от времени удачные попадания все же случались.
На этот раз натерпевшиеся от ночных нападений британские кавалеристы не выдержали и понеслись в атаку. Но стоило им отдалиться от лагеря, как между ними и уже снимавшимися с места ракетчиками оказались два полка донцов. Силы были примерно равными, но жаркой схватки не получилось. Англичане не рискнули слишком отрываться от основных сил и повернули назад. Казаки тоже не стали нарываться и погарцевав немного на виду у неприятеля, отошли в степь.
Кирьяков же все это время ждал распоряжений от князя и не решился ни на что, кроме высылки вперед одного эскадрона Веймарских гусар. Как на грех, командовавший ими Бутович, утром приказал своим подчиненным сменить шинели на легкие «полотнянники» [4], отчего не знавшие об этом артиллеристы приняли их за неприятеля и обстреляли. Как ни странно, единственным пострадавшим от этого обстрела стал майор французского генерального штаба Фурье.
Отправившись на рекогносцировку вместе с англичанами, он сначала ухитрился отстать, а затем и потерять свою лошадь. Спрятавшись в кустах, незадачливый офицер надеялся отсидеться, но имел неосторожность попасться на глаза шарахнувшимся в сторону от «дружественного огня» гусарам. Впрочем, обо всем этом я уже после окончания сражения.
Порученный моим попечениям левый фланг производил двоякое впечатление. С одной стороны, главная позиция недурно укреплена. Три люнета для пехоты, плюс батарея тяжелых, в особенности по меркам полевой артиллерии, корабельных 24-фунтовок. Устроенная по совету Тотлебена на Телеграфном холме она могла держать под обстрелом местность между татарскими деревушками Бурлюк и Альма-Тамак.
С другой, пространство от того же Альма-Тамака и до берега моря не укреплено вовсе. Очевидно, Меншиков и распоряжавшийся здесь до меня Кирьяков считали эту местность не проходимой и потому совершенно не озаботились ее защитой. Единственное чего мне удалось добиться, это устройство еще одной четырех-пушечной батареи на утесе с развалинами старой крепости. Затащить туда орудия оказалось совсем не просто, но теперь можно было держать под обстрелом весь фронт, а также прилегающую акваторию.
Надо сказать, что, когда я предложил укрепить наши позиции корабельной артиллерией, Меншиков эту идею горячо поддержал. Правда, по его мнению, следовало ограничиться небольшим количеством 12-фунтовых карронад.
— Этим мы французов не испугаем! Надо хотя бы 24-фунтовые пушки…
— Константин Николаевич, — вкрадчиво поинтересовался светлейший. — Вы же отдаете себе отчет, что, если, точнее, когда нам придется отступать, эти орудия неминуемо попадут в руки врага?
— Да и черт с ними! — отмахнулся я. — Главное хорошенько пустить кровь союзникам. Если получится, это станет приемлемой платой. А сами пушки заклепаем или взорвем. На худой конец, сбросим с высоты в море.
— Не знаю, не знаю, — покачал головой князь, в голове которого такой размен просто не укладывался.
— Зато будем иметь подавляющее преимущество в дальности и мощи залпа. Что же до ответственности, можешь, не стесняясь валить все на меня.
— Эх, Ваше высочество, — вздохнул Меншиков. — Великие князья виноватыми не остаются…
В конце концов, компромисс был достигнут. Батареи на левом фланге и в центре получили длинные 24-фунтовки, а все-таки доставленные карронады заняли место на батареях правого фланга, на Курганной высоте.