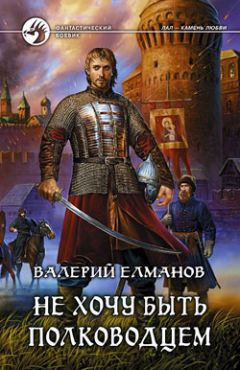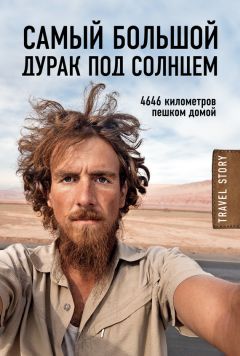Александр Громов - Русский аркан
Беседы с другими офицерами также не внесли ясности. Остро, остро не хватало «цербера» – графа Лопухина! Уж он смог бы! Он вычислил бы всех тайных врагов, одного за другим…
В сотый раз проклиная отсутствие ненавидимого «жандарма», вполне возможно, покойного, Розен был поражен внезапной мыслью. Причина взлома стала ясна. За сравнительно недолгое пребывание на «Победославе» статский советник Эн Эн Лопухин сумел разоблачить и обезвредить двух британских агентов. Был ли он убежден в том, что их только двое?
Теперь Розен почти не сомневался: Лопухин был убежден в обратном. Он знал о присутствии третьего или хотя бы догадывался о нем.
На основании чего?
На основании тех бумаг, что лежат сейчас запертые в несгораемом шкапу. Лопухин часто и подолгу сидел в своей каюте, без сомнения занимаясь анализом фактов. Вполне вероятно, что он делал письменные заметки. Очень трудно вести такую работу в уме.
Вот что, по всей видимости, искал взломщик! Бумаги, в которых мог содержаться намек! Негодяй пошел на серьезный риск, чтобы уничтожить компрометирующие его бумаги! Наверняка он прихватил бы и деньги, чтобы втихую подбросить их в чей-нибудь рундучок, – ведь в случае успешного взлома несгораемого шкапа поголовный обыск стал бы неизбежен…
Вывод не принес облегчения: враг был умен. Даже очень умен. В чем-то он опережал Розена, и тот понял в чем, хотя и не сразу: негодяй не списывал Лопухина со счетов. Затаившийся враг допускал вероятность того, что беспокоящие его бумаги покинут несгораемый шкап еще до Владивостока, а возможно, и до Иокогамы. Но может ли это случиться без участия Лопухина?
Крайне маловероятно.
– А ведь эта сволочь ставит «цербера» куда выше, чем я, – бормотал себе под нос полковник, раскуривая у фальшборта очередную «канберру». – Но это зря. Если он жив, то в плену, а что такое каторга у исландцев, всем известно. Даже если сумел сбежать – все равно он сейчас на другом краю света. Чудес не бывает, но если Лопухин в ближайшее время объявится вновь, я поверю в чудо…
День проходил за днем, вахта сменяла вахту, короткими южными вечерами солнце исправно валилось в пылающий океан. Диковинные и глупые летучие рыбы, бывало, стукались в полете о борт и, оглушенные, падали в воду, чтобы тотчас угодить в чью-нибудь зубастую пасть. Гремели короткие тропические грозы. Иногда разводя пары, но чаще пользуясь силой ветра, «Победослав» не слишком быстро, но неуклонно приближался к Сандвичевым островам.
Отобрав из своих морпехов полдюжины тех, кому верил как себе, Розен поручил им нести караульную и охранную службу вокруг особы цесаревича. Последний, если не напивался у себя в каюте, мог оказаться в любом месте судна, но чаще всего направлял стопы в кают-компанию, встречаемый там холодно-официально и не замечавший этого. Здесь Розен брал охрану на себя – всегда при оружии и в готовности применить его.
Ничего, однако, не происходило. Не только ничего угрожающего, но и ничего подозрительного.
Совсем ничего.
Темнея лицом, Розен выжидал. Не ошибся ли он в выводах?
Нет.
Почему нет – сейчас Розен уже не сумел бы внятно объяснить. Просто нет. Он так чувствовал. Он уже мог рассматривать свое чутье как аргумент.
Преимущество первого хода оставалось за противником. Но время работало против него. Время работало на Розена.
– «Здравствуйте», – произнес граф, строго глядя на слугу. – А также «добрый день».
Еропка имел несчастный вид.
– Кони… кони… – забормотал он, зверски морща лоб и двигая ушами.
– Ну?
– Кони… сейчас… господи, боже мой, царица небесная, ведь знал же!.. Кони…
– Не верблюды? – поинтересовался Лопухин.
– Обижаете, барин, – укорил Еропка. – Стыдно вам так-то надо мной измываться. Кони… Ну что за язык поганый, прости, господи! Ты ему как человеку здравствовать желаешь, а он тебя в ответ лошадью бесчестит! Кони…
– Коннити… – подсказал Лопухин.
– Коннити ва! – радостно выпалил Еропка, вспомнив урок.
– Посредственно. Теперь «до свидания».
– Это помню! Это у них по-японски рыба морская. Сайра называется. А в ней внутри еще «она», потому что сайра – это она, а не он и не оно. Значит, получается сай-она-ра. Сайонара, вот!
– Ладно. Теперь благодарность. Как сказать «спасибо»?
– Ори, – сказал Еропка. – Ори на гада. А перевернуть по-ихнему – получается аригато.
– Дельно. «Жить».
– Суму. С сумой, значит. Худо японцы живут, надо думать. Я слыхал, будто они одним рисом питаются. Оттого и злые очень. Беспощадный народ. Ихние дворяне сами себе животы саблями порют от таких-то харчей. Конечно, ежели каждый божий день тебе на завтрак рис, на обед рис и на ужин опять рис, так и озвереть недолго…
– Не заговаривай мне зубы. «Японец».
– Нихо… нипо… нихре…
– Забыл?
– Запамятовал, барин.
– Нихондзин, – тихонько подсказал Нил, сидевший с книжкой в уголке тихо, как мышь. Слов не понимал, но увлеченно рассматривал картинки. Как оказалось, еще и прислушивался.
В ответ слуга одарил мальца неприязненным взглядом: ишь, мол, умник! Больно шустер. Гляди у меня!
– «Город», – продолжал Лопухин.
– Мати, – Еропка враз просветлел лицом. – Это, барин, просто. Каждый догадается. Вроде как Москва-матушка.
– Ладно. «Гора».
– И это просто. Яма. У энтих азиатов все шиворот-навыворот.
– «Идти пешком».
– Аногимас… то есть арукимас. Ну вот видите, барин? При чем тут руки, если идти? На руках они там в Японии ходят, что ли? Ногами кверху? Абракадабрский язык, право слово.
– «Плохой».
– Кради… Нет, варуй. Точно, варуй. Вот это, я вам скажу, барин, еще на что-то похоже. Кто ворует, тот разве хороший человек? Он даже по-японски плохой.
– Ладно. Теперь «раздвижная перегородка в доме».
Еропка вспотел.
– Да я, барин, не то что выговорить по-японски – я себе представить это не могу!
– Мели, Емеля… Фусума. Запомнил? Фусума. Повтори три раза.
Пытка японским языком продолжалась еще четверть часа, полчаса, час – с каждым днем все дольше по мере увеличения словарного запаса. Изучая язык сам, Лопухин требовал того же и от слуги. На практике же выходило, что Нил, которого граф вовсе не отягощал изучением японского, делал бóльшие успехи, улавливая чужой язык с голоса.
Спасенный японец, отпоенный рыбным бульончиком, пришел в себя удивительно быстро. Первые дни он только и делал, что спал и ел, а в промежутках дичился, вызывая в матросах жалость несколько брезгливого свойства: уж не психический ли? Однако с течением времени, видя вокруг себя сочувствующие или улыбающиеся физиономии, японец научился улыбаться в ответ, скаля крупные неровные зубы, освоился и был признан человеком, хотя и странным. До работы его не допускали, кормить после жестокой бульонной диеты мало-помалу начали вволю. По-русски он не знал ни слова, зато, к радостному изумлению Лопухина, умел с грехом пополам объясниться по-английски.
Звали его Кусима Ясуо. В свои тридцать лет он успел послужить в англо-японской пароходной компании, не пережившей недавней гражданской войны, ходил в Шанхай, а однажды даже в Гонконг и знал судовые механизмы. Однако клан, владевший японской частью предприятия, на свою беду поддерживал сиогуна против микадо… нет-нет, обошлось без казней и самоубийств, но клан потерял влияние, а это в Японии подчас хуже, чем сеппука главы первенствующего в клане семейства. Вместе с влиянием клан потерял несколько предприятий, в том числе свою долю в пароходной компании, отошедшую к могущественному клану Тёсю. Многие простые матросы не захотели служить клану Тёсю; не захотел и Кусима. В ожидании настоящей работы он временно нанялся на рыбачье судно из Тоёхаси…
– Тайфу! – в ужасе произносил он, пуча глаза, и раскачивался, картинно схватившись за обритую голову. – Hurricane! – вспоминал он английское слово. Выходило, что в поисках рыбы капитан увел джонку далеко в океан и не поспешил вернуться в залив Исе, увидев предвестники большой бури. Кто ждет гнева божеств ветра и моря в месяце сацуки?
Промедление обернулось бедой. Жестокий шторм налетел, когда берег был уже виден. Ветер переломил мачту с такой легкостью, словно это была палочка для еды. Удивительнее всего было то, что бескилевое суденышко не опрокинулось. Ураган потащил джонку в открытый океан. Трещал корпус; громадные волны перекатывались через палубу, смывая людей; оставшиеся в живых молились о том, чтобы все скорее кончилось, все равно как. Лишь на пятый день ветер стих, и волнение улеглось. Шестеро рыбаков, оставшихся на борту, выбрали другого капитана – толстого Муги, так как он приходился дальним родственником владельцу джонки. Опытный Кусима остался простым матросом – он был чужак и должен был знать свое место.
Глупец Муги распоряжался так, что установка фальшивого рангоута растянулась еще на четыре дня. Когда наконец-то смогли поднять парус, наступил штиль.