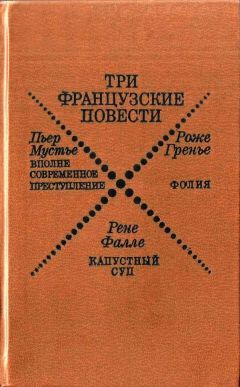Александр Авраменко - Мы всякую жалость оставим в бою…
Подполковник Всеволод Соколов
… — Потерпи миленький, потерпи…
Где я? Что со мной? Почему темно?
Хриплый голос над головой:
— Если самолета не будет через двадцать минут, через двадцать пять Вы, капитан, — подпоручик! Ну, как он?
Я? Замечательно, мать вашу. Если есть океан боли, то я в нем плаваю. Что ж так в горле-то жжет? Воды попросить?
— Оуы…
Хриплый голос:
— Что с ним?
И сразу же, следом другой:
— Морфий, живо! Шок снимите!
Океан боли сменяется какой-то черной волной…
* * *…Почему все гудит и трясется? Где я? Что со мной? Почему темно?
— Оуы…
— Пить хотите, господин подполковник? Сейчас попробуем…
Во рту кисло-сладкий вкус. Спасибо, вкусно…
— Морс клюквенный с сухим вином — это в воздухе первое дело. Еще хотите?
Пытаюсь мотнуть головой. Мир взрывается оглушительной вспышкой боли.
— В-в-в-в!..
— Мосейчук, морфий!..
* * *… — Подполковник Соколов, латный дружинник. Проникающее ранение верхней трети левого бедра, множественные ожоги третей степени тяжести. Значительная кровопотеря, последние два дня находился на постоянных инъекциях морфия.
Тоненький женский голосок вдруг всхлипывает:
— Ой, у него же лица нет!..
Как это нет лица? А что ж у меня тогда?
Темнота, боль…
* * *…Яркий, режущий свет. Белое пятно, колышется передо мной:
— Ну-с, голубчик, Вы меня слышите? Если да, прикройте глаза.
Белое пятно исчезает.
— Очень хорошо. — И после паузы, — Кровь и вторая операционная, срочно!
Видимо, он пытается говорить тише, но голос его гремит, как набатный колокол. Меня куда-то везут. Потом я плыву, качаясь на волнах… Боль… Боль… Боль…
* * *…Пивень возвращает мне мой портсигар. Я уже собираюсь взять папиросу, когда кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь. Рядом, на месте наводчика, сидит Волохов. Без кожи. Ярко алой рукой он показывает вперед. Смотрю туда. Боже мой! Там зенитка, проклятый «тип 88». Волохов наводит орудие, но ствол зенитки уже повернут в нашу сторону. Кой черт?! Это не «тип 88», у того калибр 75 мм, а в это жерло мы сейчас въедем! Вправо, вправо! Огонь, почему все горит?! А-а-а!..
* * *… — Соратник, будь человеком, дай поспать, а?
Что? Где это я, а?
— Э, э о я?
— А, в госпитале, — голос незнакомый, но приятный. Немного глуховатый и хриплый, но глубокий. В госпитале, так-так. А госпиталь-то где?
— Хохитай э?
— Где госпиталь, говоришь? В Москве. Это госпиталь для тяжелых.
— Э?
— Для тяжелых. Ну, мы ж тяжелораненые. Вот меня, например, с Кавказа привезли, вон летчик рядом — из Маньчжурии и вот еще бригад-иерарх — тоже с Дальнего. — Голос кашляет, потом я слышу, как чиркает спичка. — Курить хочешь?
— У!
— Сейчас, сейчас, — возня, чирканье спички. Потом мне вставляют в рот зажженную папиросу. Затягиваюсь.
— Гху, гху, гху! — эк, горло-то дерет. Что это?
— Что, господин подполковник, не привычны к «Беломору»? — короткий смешок.
М-да, к «Беломору» я, действительно, не привычен. Так у меня ж в комбинезоне «Элита» лежит!
— Хозьми «Элиту», х комхинезоне, х прагом кармане!
— Где? — смешок чуть дольше, — Эх, соратник, где ж твой комбинезон?..
Как это где? А на мне что? Да, помню, госпиталь…
— Ты кто?
— Я-то? — снова короткий смешок. — Я, соратник, из простых буду. Унтер я. Снайпер. А ты стал быть танкист?
— Латный дружинник.
— Угу. То-то я и смотрю, что на своих двоих так не обгоришь… Справа от тебя летчик лежит. Поручик. Тихий он. Без ног. А напротив — бригад-иерарх. Этот из стариков будет. Как и я. Мы, соратник, еще в Первую войну начинали. В партизанском отряде Анненкова. — В голосе звучит явственная гордость. — Доводилось слышать?
— Доводилось, — слава Богу, кажется, губы начинают слушаться, — доводилось. Это, соратник, не он ли командует дружинной дивизией «Князь Пожарский»?
— Он, он самый и есть. Борис Владимирович…
— Еще очень любит, чтоб одеты все были с иголочки, а?
— Верно, он такой. А ты-то, соратник, откуда знаешь? Встречал что ль?
— Доводилось. Иногда знаешь, старина, бывают такие чудеса, что комдив к командиру полка приезжает.
— И что? — голос становится заинтересованным. Ах, черт, как жаль, что глаза у меня прикрыты марлей бинтов. Еле-еле свет различаю, а человека уже не могу.
— Ну, давай знакомится, унтер. Подполковник Соколов Всеволод Львович. Командир латного полка дружинной дивизии «Князь Пожарский».
Поперхнувшись, унтер-офицер долго молчит. Папироса успевает догореть у меня во рту и загаснуть. Наконец он рубит по-военному:
— Унтер-офицер Ихоллайнен. 3-й отдельный финский снайперский батальон, — и после короткой паузы, — Господин подполковник, а как там? Ну, Борис Владимирович и вообще?..
Его голос расплывается, и опять я проваливаюсь куда-то во тьму, где меня ждут Пивень, Волохов, Куманин и огромное, похожее на железнодорожный тоннель, дуло японской зенитки…
* * *… — Сева, Сева, Севочка! Милый, как ты?! Доктор, почему он молчит?!
Люба? Кто ж это догадался женщину в госпиталь пропустить?
— Любовь Анатольевна, Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. — Старческий, чуть надтреснутый голос ласкает и успокаивает. — Ему просто еще трудно говорить…
— Мне не трудно, — а голос, действительно, не совсем мой. — Здравствуй, — милая.
— Как ты здесь? Тебе плохо? Что у тебя болит? Что-нибудь принести?
Вот в этом она вся. Если я в госпитале, то, очевидно, мне не слишком хорошо. Что у меня болит? Откуда я знаю? Все у меня болит! Принести? Что принести? Хотя…
— Любаш, если можно, папиросы. «Элита» или «Москва». Первое — лучше.
— Принесла, принесла. Вот еще апельсины, итальянские. И ландрин, как ты любишь.
Потрясающе! Итальянские апельсины! Лучше бы коньяку догадалась принести. Или, еще лучше, вместе с апельсинами…
— Люба, как дети?
— Хорошо. Аришка придет в следующий раз со мной. Сева — в корпусе. Он — только в субботу. Как ты себя чувствуешь?
— Нормально (Х-ха!), нормально. Все очень хорошо!
— А я так испугалась, когда сначала позвонили, а потом от Пал Андреича Кольцова офицер пришел. Сказал, что ты в госпитале, в тяжелом состоянии… — Всхлип, и вдруг оглушающая боль, точно надели на грудь раскаленное кольцо. — Как ты мог всех нас так напугать?!
У меня не выходит даже застонать. Сознание постепенно покидает меня, и последнее, что я слышу, это все тот же старческий, чуть надтреснутый голос:
— Любовь Анатольевна, что Вы делаете?! Его нельзя обнимать!..
* * *…Два месяца, я провожу где-то на границе между жизнью и смертью. Они остаются короткими всплесками яви и долгими, страшными омутами беспамятства. За это время мне латают бедро, подживляют сгоревшую спину, чинят лицо…
* * *… — Ну-с, голубчик, а теперь снимем бинт.
Больно. Не так, как было раньше, но все равно больно. Непроизвольно дергаю головой.
— Больно? Потерпите, голубчик, потерпите. Вот так, вот так. Ну-с, все. Готово. Вы — молодец.
Молодец? Можно разжать зубы. Глаза открыты, вроде, все нормально.
— Все, голубчик. Теперь можете смотреться в зеркало и оценивать работу наших хирургов. Учтите, когда Вас привезли, у Вас ведь половины лица не было, — пожилой, очень пожилой доктор ласково смотрит на меня, — так что пришлось собирать, буквально, по кусочкам. А сколько мы с Вашим носом возились…
Я осторожно поворачиваю голову. Шея еще побаливает, а корпусом вообще лучше не двигать… Зеркало…
— О, Господи!
Из-за стекла на меня смотрит, нет, даже не лицо, а какая-то жуткая морда, похожая не то на крокодила, не то на обезьяну. Лоснящиеся багровые заплатки, синюшного цвета лоб, желтоватый нос покойника. Это — правая сторона лица. Левая — мое прежнее лицо. На щеке — изрядная седая щетина. Это что ж, я теперь только половину лица брить буду?
— Вот и молодец, вот и правильно. Всегда надо смеяться. Чем больше человек смеется, тем меньше нам, врачам, работы… Сестра, сестра, успокоительное быстро!..
Я уже не могу остановиться, смех душит меня, я хохочу до слез, до визга. Откидываюсь назад, невзирая на боль в спине, и буквально реву от смеха:
— Это ж какая экономия… брить только… половину физиономии… и на стрижке…
Перун-милостивец, теперь мной только детей пугать. Пресвятая Дева, да ведь от меня жена убежит. И я ее пойму! С таким страхолдюдом ни один нормальный человек жить не станет, особенно женщина, молодая и красивая…
— Вот выпейте, пожалуйста…
Стакан стучит о зубы, не ощущаю вкуса, часть жидкости проливается на грудь. Мать вашу, доктор, стоило вытаскивать меня с того света, что бы превращать этот в ад?!
* * *… — Ну что Вы себя так затрудняете каждый день, батюшка? — спрашивает Ихоллайнен у бригад-иерарха, делающего утреннюю гимнастику. — Контузия у Вас тяжелая, а Вы каждое утро так себя истязаете?