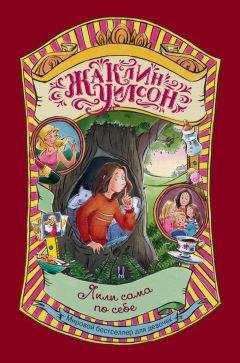Мушкетерка - Лэйнофф Лили
— Жаль, что я не смогла подарить тебе сына, а вместо этого родила дочь, к тому же такую… неполноценную.
Я не расслышала, что ответил папа.
— Я хочу, чтобы ты перестал ее обучать. Больше никакого фехтования. Обещай. Я знаю, тебе хочется передать Тане свои знания, но ты не можешь реализовать свои амбиции через нее. Будут последствия. Я не хочу, чтобы она тратила каждую минуту своей жизни, все свои силы на то, что никак не поможет ей в будущем. Ей не нужно знать, как защищать себя, ей нужны навыки. Женские навыки. Потому что, когда она… — Тут она прервалась, но я знала, что она хочет сказать. Она собиралась сказать: когда она выйдет замуж.
— Мы что-нибудь придумаем. Нет, послушай. Правда, придумаем. — Следующие несколько слов я не расслышала через стену. Потом отец снова заговорил чуть громче: — Эти подонки ждали, пока я уеду из города. Что ж, они недооценили мою готовность оставаться дома, когда дело касается моей семьи. Они не осмелятся снова сунуться, пока я здесь.
— Дело не только в этом! Что с ней будет, когда меня не станет? Когда тебя не станет? Ты не бессмертен, особенно теперь…
Послышался громкий вздох. Всхлипывание и отчетливое шуршание ткани. Я отступила назад и схватилась за изголовье кровати. Я уронила голову, мои ноги стали лилово-серыми, как всегда, когда начинался сильный приступ головокружения.
Неважно, что говорила мама, неважно, как сильно мне хотелось, чтобы она видела во мне не только мою слабость. Она не сможет отобрать у меня фехтование. Все это я уже слышала: девочке незачем знать, как правильно браться за рукоять шпаги, незачем знать, под каким углом ее рука должна прижаться к боку, когда противник готовится атаковать. Девочкам все это не нужно — особенно больным девочкам. До сих пор папа в ответ на эти аргументы лишь качал головой. Она не такая, объяснял он.
— Она — Таня, — любил повторять он. Это доводило маму до белого каления. — Она — Таня.
Таня, дочь, которая должна была родиться сыном, дочь, которая должна была продолжить дело своего отца. Но кто захочет жениться на больной девушке? Даже если она дочь мушкетера.
Глава вторая
— Боже мой!
— Погляди, как к стене привалилась! Увечная, что ли?
Я подняла голову и оперлась рукой о каменную стену. Девушки были видны издалека: их платья яркими пятнами выделялись на фоне мощеной улицы. Я почувствовала, как кровь вопреки моей воле приливает к щекам, как меня охватывают гнев и отчаянный стыд, и выдавила из себя приторную улыбку:
— Гери! Какой приятный сюрприз!
От компании, оставив Маргерит и остальных позади, отделились три-четыре девушки, которых я знала с детства. Мне был хорошо знаком такой тип. Неприятные, но в определенных границах. На решительные действия неспособны.
Глаза Маргерит сверкнули, в них промелькнула какая-то болезненная хрупкость. Именно я придумала ей прозвище. Еще в те времена, когда мы пропадали в полях подсолнухов, исследуя окрестности городка, а когда заплетали друг другу косички, случайно спутывали волосы в такие колтуны, что нашим матерям приходилось выстригать их… Но спустя секунду наваждение рассеялось, и Маргерит поджала губы: она подхватила эту привычку у других жителей городка. Все знали, как надо смотреть на бедняжку Таню. Как наклонять голову набок и скользить взглядом сверху вниз.
— Это давно в прошлом. Мое настоящее имя — Маргерит — мне нравится больше. Гери — всего лишь детское прозвище. — Она шмыгнула носом, разгладила складки на платье, а потом, нахмурившись, стряхнула воображаемую пылинку с зеленой ткани. Должно быть, она купила это платье на свое шестнадцатилетие, когда ездила в Париж. Об этой поездке она с триумфом рассказывала на нашей центральной площади. Таких красивых платьев в Люпьяке не водится.
Раньше мы праздновали день рождения вместе — мы родились с разницей всего в несколько дней. Однажды мы устроили совместную семейную поездку на озеро — мы стояли на разноцветном песке и ощущали, как холодная вода плещется у наших ног, и дивились тому, как огромен мир, в котором нам предстоит взрослеть. Но четыре года назад все изменилось, и наша дружба закончилась. В двенадцать Маргерит отвернулась от меня, потому что дружить с девочкой, которая все время должна держаться в стороне, которая должна оставаться тенью своей слишком тревожной матери, — это совершенно, категорически не весело. Папа хотел нанести родителям Маргерит визит и высказать все, что он думает о предательстве их дочери. Но мама убедила его, что так будет только хуже. Что он мог сказать? Что он мог сделать, чтобы мое тело прекратило предавать меня снова и снова?
Мои мысли сделались острее, жестче. Я хваталась за них, как за оборванные нити. Фигура Маргерит поплыла перед глазами. Я поджала пальцы ног — этому трюку я научилась случайно, он помогал остановить приступ головокружения и прояснить зрение.
— Весьма увлекательная беседа, но мне пора, — сказала я.
Она зацокала языком.
— Неужто ты занята? — Маргерит заглянула в мою корзину, в которой лиловели полевые цветы. — Как мило. Какая жалость, что тебе некому их подарить.
— И всегда будет некому, — подхватила ее спутница. — Она даже не разговаривает с парнями, а о том, чтобы кто-нибудь захотел на ней жениться, и речи быть не может.
Я страдальчески вздохнула и крепче прижала корзину к себе, как будто укрывая ее от их взглядов, плетеный бортик цеплялся за платье. Я не одна. У меня есть папа. И мама.
Но язвительного ответа у меня не нашлось. Чувства трудно скрывать, особенно когда они так болезненны. Когда касаются моего тела и того, как оно меня предает. Когда они касаются того, как я буду жить, когда моих родителей не станет, когда не останется никого, кто принимает меня такой, какая я есть, когда некому будет позаботиться обо мне — не вопреки моим головокружениям и не из-за них, а просто так, без всяких причин. Неужели это действительно слишком дерзко — надеяться, что в мире есть человек, который разглядит и полюбит меня, которому буду нужна только я?
Маргерит усмехнулась:
— Я иду на примерку. Ведь носить одежду, купленную в Париже в прошлом году, — это моветон!
В последнем предложении содержался некий намек, как будто она сама осознавала всю нелепость этого заявления, этой мысли. А может, я просто выдавала желаемое за действительное.

Солнце еще стояло в зените, когда я споткнулась о расшатанный камень на дорожке, ведущей к дому. Я едва успела схватиться за забор. Четыре года назад белая краска ярко светилась на фоне травы. Теперь по столбикам зелеными змеями вились лианы, а воздушные корни плюща вгрызались в дерево.
— Maman?
Дверь в салон была на волосок приоткрыта, и меня моментально отбросило в воспоминания о той ночи, о липкой от пота кочерге в руке, о дыме, разъедающем легкие… нет!
Их там нет. Мы в безопасности. Они не вернутся.
Я постучала, прежде чем войти. Мама дремала в своем любимом кресле, опустив голову на подголовник, у нее на коленях лежала письмо. Я обернулась, чтобы тихонько выйти обратно, но тут послышалось шевеление, слабое покашливание.
— Таня?
— Я собрала их для тебя. — Она посмотрела на полную цветов корзину, которую я протянула ей, а потом ее взгляд упал на письмо. Может быть, она в затруднении? Может, я смогу ей помочь, как она помогала мне и… — Что, почерк неразборчивый? Или слишком мелкий? Я могу прочесть тебе…
— Нет, все хорошо, — ответила она отрывисто и напряженно, сложила письмо вчетверо и засунула себе под шаль, подальше от моих любопытных глаз.
— Мне правда не трудно, — снова подступилась я.
— Таня, все хорошо, я же сказала.
— Ну ладно. — Моя рука зависла над маленьким столиком на случай, если мне потребуется опора.
Она потерла лоб.
— Твой дядя передает тебе привет. Со мной все в порядке, — добавила она, когда я начала возражать. — Пойди лучше поработай над новым узором для вышивки, который тебе прислала тетя.