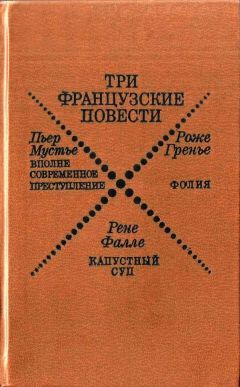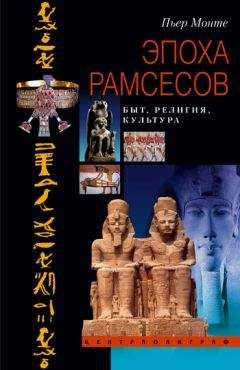Анатолий Матвиенко - Эпоха героев и перегретого пара
— Другого выбора не было, Павел, — не очень искренне заметил Строганов.
— Да. Да! Или они, или Россия. Кого мог — пощадил. Урал, Сибирь, власть окрепнет — верну окаянных. Пусть его. Но не сейчас.
— А Кюхельбекеры?
— Господи, что с них взять. Младший — куда ни шло, оставил на Балтийском флоте. Касательно Вильгельма… Знаешь, как лицеисты его звали? Кюхля!
— Точно. Помню, мне про пушкинскую эпиграмму рассказывали. Сейчас… Вот!
За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.
Пестель расхохотался.
— Точно! Я тоже вспомнил. Кюхля, про неё прослышав, вызвал Пушкина на дуэль. Пистолеты им зарядили клюквой. Представь, он и клюквой попасть не сумел! С пяти шагов! Потом его Ермолов выгнал с Кавказа. И я обречён с такими дело иметь. А что поделать? Надо хоть кого-то из героев Сенатской площади во власти держать.
— Если про лицеистов… Павел, помнишь дьячка Мордана? Модеста Корфа. Математика, финансы — по его части.
— Превосходно, Александр! Вижу, сама судьба тебя привела. Только вот Модест — такой же германец, как и я. Единственный министр остался с прежних времён, Карл фон Нессельроде. Негоже выходит — Верховное Правление сплошь из немцев состоит, пусть и обрусевших. Мне надо в приближённые русского, верного, без камня за пазухой. Чтоб народ видел — коренная нация в правительстве есть. Короче, Александр, мне ты нужен во власти.
— За высокую честь благодарствую. Только неожиданно весьма.
Пестель подбежал к креслу, на котором сидел Строганов, ухватился руками за подлокотники и низко наклонил потное усатое лицо.
— Будешь главой Коллегии Государственного Благочиния. Фюрером над Бенкендорфом, Дибичем и прочими старшими ляйтерами.[4] А заодно и над другими присматривать. Осилишь, я верю. А то мне и Рейхом, и К.Г.Б. править — сил больше нет. Помоги!
— Тебе помочь готов, и России стократ. Согласен! — о впечатлении, что благо для страны и польза для вождя могут весьма и весьма разойтись, Строганов умолчал, уповая разобраться в дальнейшем. В жизни не всё таково, коим кажется на первый взгляд.
Отправив родным письма в Нижний Владимир и в надежде вернуться к слиянию Камы и Волги вместе с коллегией, когда перенос столицы завершится, Александр Павлович принялся за дело. Перво-наперво познакомился с заместителями — Иоганном Карловичем фон Дибичем, именовавшим себя в русских документах Иван Иванычем, и Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Волею Пестеля Дибич принял бразды правления полицией, не слишком от имперской отличавшейся, только переименованной в Обыкновенное Благочиние.
А вот с республиканской жандармерией русский вождь начудить изволили. Название она получила пышное и старомодное — Вышнее Благочиние. Доказывая себе и другим надобность сего установления, Пестель мудро написал:
«Законы опредѣляютъ всѣ тѣ предметы и дѣйствія, которыя подъ общія правила подведены быть могутъ и слѣдовательно издаютъ также правила долженствующія руководствовать дѣяніями Гражданъ. Но никакіе законы не могутъ подвести подъ общія правила ни злонамѣренную волю человѣческую ни природу неразумную или неодушевлённую».
Лучше бы Государь сочинил сие по-немецки и без затей, а на русский язык приказал кому-то перевести. Из путанных слов его получалось, что со злонамеренными личностями по закону обходиться не следует; выход один — переводить смутьянов из природы неразумной в природу неодушевлённую. Обещанная отмена смертной казни отложилась, а для исполнения наказаний Пестель повелел внутри К.Г.Б. особый приказ основать — Расправное Благочиние, призванное к решению дел, по маловажности своей могущих затруднить судебные места Государственного Правосудия и не требующих точности судебного обряда.
А что может быть проще разбирательства о противлении Верховному Правлению? Какая требуется точность? Не собирать же присяжных по пустяку. Росчерк пера — и в Сибирь, ежели бунтарю повезёт отделаться столь незначительно.
Строганов представить себе не мог на посту главы Вышнего Благочиния личность более соответственную, нежели Бенкендорф.
— Гутен таг, майн фюрер! — при виде нового начальника в здании Благочиния на Лубянской площади он вытянулся как в высочайшем присутствии.
Очевидно было, что закоренелый служака, на одиннадцать лет старший, не сгорает в восторге от назначения. Он сам на то место заглядывался и, понятное дело, Строганову не рад. Точно так же Александр Христофорович не любил прежнее начальство, особенно императора Александра I, упорно не видевшего графские таланты. И Пестеля не жаловал, таланты Бенкендорфа признавшего, но недооценившего. А раньше французов ненавидел, оттого бивал их геройски в Отечественную войну. Почему-то лучшие жандармы — личности, которые никого не любят и сами не любимы никем.
Строганов важно опустился в кресло, давно и тщетно облюбованное Бенкендорфом, потребовав доклада. Тот снова вытянулся во фрунт, что новобранец перед унтером, и по пунктам доложил недельное исполнение службы.
— Айн. Раскрыто бунтов противозаконных, вооружённых, во вред обществу направленных — четырнадцать. Цвай. Разогнано обществ злоумышленных, собраний запрещённых, несущих всякого рода разврат и в души разброд, тридцать семь. Драй. Лихоимств да корыстолюбия в частях Правления изобличено девяносто восемь.
— Почто ж не сотня, Александр Христофорыч?
— Девяносто семь в разнарядке, Александр Павлович. И так бывает, что на службе Правлению на отдельных постах раз в две недели стяжателей садим в острог. Новый лишь к делам приступит, его снова в острог.
— Понятно, — Строганов осознал, что без твёрдой руки порядок в державе не поставить, однако же не видел глубины сей напасти. Кордонные да дорожные побирушки показались ему досадными, но мелкими казусами рядом с общей картиной российских беспорядков, нарисованной ляйтером Вышнего Благочиния, которое вдобавок хватало людей по разнарядке, а не по свидетельствам виновности.
— Тайный розыск доносит, мой фюрер, что писаки наши угомониться никак не желают. И пишут, и пишут, и пишут. Революция им не нравится, строгость мер лишнею обзывается. Гражданам вредно правительство обсуждать. Поверите ли, Александр Павлович, искренне в толк не возьму, что потребно сим бумагомаракам.
— Так-так, — глава К.Г.Б. рассеяно глянул письменный рапорт Бекендорфа, от количества ошибок в коем лицейский наставник упал бы в беспамятстве. — Давайте уж по-немецки, герр генерал. А куда смотрит Государственный приказ печати и культуры?
— Осмелюсь доложить, господин Дельвиг есть лицо поверхностное и безответственное. На циркуляр об упорядочении книгоиздательства и укорочении вольнодумства он ответствовал, что загружен нынче подготовкой полного собрания сочинений вождя; иными авторами заниматься ему недосуг.
— Вот как. Кто же, по-вашему, ныне особенно вреден?
— Как обычно, мой фюрер, Пушкин. Извольте почитать его пасквиль про бунтовщиков против революции, коих вождь помиловал, петлю ссылкой заменив.
В доносе Тайного розыска, тщательно переписанном на русском языке, содержалось стихотворение, которое мятежный поэт зачитал на одной из разогнанных злоумышленных сходок.
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
— Печально, — заключил Строганов. — А ведь так хорошо начинал Александр Сергеевич. Здесь же каждая строчка дышит Вандеей и контрреволюцией. Особенно про меч. Явный призыв к свержению Верховного Правления.
— Так точно. Возмутительно.
— Знайте, Александр Христофорович. Вольнодумство и якобинство хороши только один раз. Ни одна держава не вынесет революции каждый год. Французы убедили нас, мы не повторим их ошибок. С нас хватит декабря двадцать пятого года, и больше никаких революционеров. Кстати, как там другие смутьяны поживают? Я про иудейский вопрос.
— Прошу простить, — Бенкендорф метнулся в канцелярию и наказал доставить еврейскую папку. Доклад по памяти не был сильным его местом. — Вождь державы повелел создать специальные огороженные поселения на юге Малороссии для некрещёных. Там ныне расквартированы двадцать тысяч внутренней стражи под началом генерала Дубельта.
Глава Вышнего Благочиния замер в ожидании начальственного ответа, высокая чёрная глыба в мундире, подобном пестелевскому, но с меньшим числом побрякушек. Как бы ни был он хорош на своём месте, где острый ум вреден, а главное — нюх и хватка, внешний вид генерала удручал. Он совершенно зря под стать верховному вождю зарастил губу чёрными усами, без которых отлично обходился в войну двенадцатого года; потную лысину Александр Христофорович тщетно пытался прикрыть, зачёсывая на неё редкие чёрные кудельки, росшие над ушами. Разве что остричь его налысо под каторжанина, вздохнул про себя Строганов и уточнил: