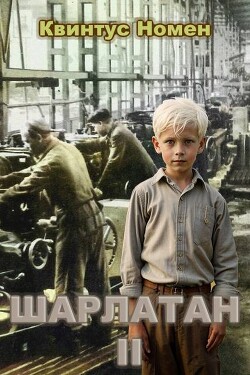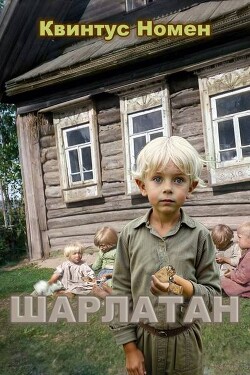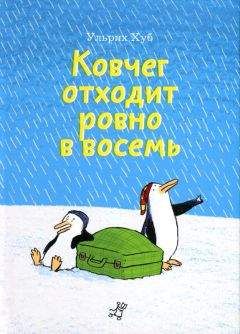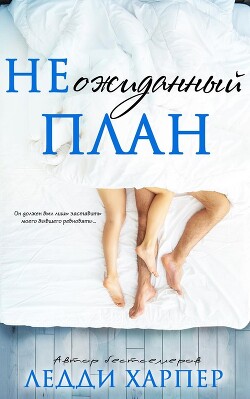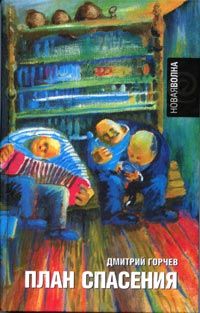Шарлатан 3 (СИ) - Номен Квинтус
И с генераторами стало просто: у КБО появился «свой источник меди», небольшой, но очень стабильный: в Скопине заработал завод по переработке пиритовых огарков. То есть он еще весной заработал, но там долго наладка всего оборудования шла — а перед моим «полуюбилеем» завод заработал на полной мощности, перерабатывая в сутки тысячу тонн «ценного сырья». И выдавая очень нужной стране меди по две с половиной тонны — но страна на эти крохи не позарилась и предприятия Комбината могли ее тратить уже по собственному разумению. А вот на что страна позарилась, так это на золото и серебро, а так же, что для меня вообще неожиданностью не стало, на уран. Ну, урана-то комбинат крохи производил, килограммов по пять в сутки, да и пара килограммов золота явно не могла спасти отца русской демократии. А вот почти центнер серебра какую-то заметную помощь оказать, видимо, уже мог — и я мгновенно выяснил, что очень многого о своем происхождении мне было раньше неизвестно. Фантазия Зинаиды Михайловны по этой части меня просто восхищала: если я не путаю, за все время нашего знакомства она ни разу не повторилась в выборе очередных моих предков. В этот раз я стал правнуком диплодока: в КБО спустили «внеочередной план» по строительству второй очереди Скопинского завода, причем очереди, втрое более мощной, чем первая. И, мне кажется, единственной причиной, не позволившей мне лично с диплодоками познакомиться, стало то, что на это строительство страна все же денежек сколько-то выделила. Много выделила: этот план скорее всего лично товарищ Струмилин составил (были в нем присущие одному ему речевые обороты, которых он от меня нахватался), а он искренне считал, что завод предстоит строить в чистом поле и поблизости не будет вообще ничего: ни заводов кирпичных и цементных, ни жилья для рабочих, ни даже речки с водой. Кстати, в последнем он был совершенно прав: тамошнюю Скопинскую речку завод полностью уже допил и воду нужно было качать из других уже источников, километров за двадцать. Все же не зря Струмилина начальником Госплана поставили, умел товарищ замечать мелкие, но исключительно важные «недоработки» в любом проекте. В любом именно строительном проекте…
А Зинаида Михайловна очень не напрасно стала главой «централизованной бухгалтерии КБО»: мимо такого плана, полностью обеспеченного фондами и финансированием, она пройти просто не смогла. И в поселке Милославское в тридцати километрах от Скопина она — естественно, в рамках «обеспечения строительными материалами второй очереди Скопинского завода» запустила строительство стеклозавода: там рядом было месторождение просто великолепного стекольного песка. А в городке с названием, известным каждому москвичу, хотя вряд ли даже один из тысячи знает, где он находится, приступили к постройке завода уже металлургического, чтобы на месте железо из остатков переработки огарка выплавлять. Все же, когда завод в Скопине заработает на всю планируемую мощь, этих «остатков» хватит на выплавку полутора сот тысяч тонн стали, а далеко возить двести пятьдесят тысяч тонн руды — идея так себе. Впрочем, металлургический завод там опять строился местпромовский, за счет КБО — зато и продукцию его можно будет самим тратить, не выпрашивая каждый гвоздь у товарища Струмилина.
И у меня уже в голове роились планы по использованию всего этого богатства, но внезапно мне стало вообще не до планов. Потому что, похоже, планы на меня составили уже совсем другие люди. Люди, планы которых с моими, скорее всего, вообще никак не совпадали, но отказать которым было крайне непросто. Ну, я так подумал, потому что в один не особо прекрасный день (точнее, уже вечер) двадцать второго июля в дверь квартиры снова позвонила соседка и сообщила, что нас снова ждет очередное совместное путешествие. И на сборы она мне дала лишь пятнадцать минут…
Глава 11
За первую половину лета в стране много чего интересного случилось. Еще много интересного произошло непосредственно в Горьком, а в университете вообще был достигнут невиданный прогресс по части проектирования и изготовления вычислительных систем. Даже два «прогресса»: первый заключался в том, что разработчики наконец поняли, что они, собственно собираются делать и выкинули все свои прежние наработки в помойку. То есть не выкинули, а разобрали: там очень много ценных радиодеталей все же было. А второй — радиофизики в группе, занимающейся придумыванием нужных ламп, тоже поняли, что от них остальные хотят и не просто придумали, но и изготовили уже нужные для вычислительных машин специализированные лампы. Немного их сделали, меньше двух десятков — но ламповый заводик-то уже строился и они смогли четко сформулировать, какое оборудование на этом заводике потребуется, чтобы такие лампы производились в достаточных количествах. «Идеологически» лампы ничего нового из себя не представляли, это были все те же «желудевые» лампы, только размером поменьше: диаметром не двадцать один или девятнадцать миллиметров, как их делали на «Светлане», а всего одиннадцать. И мощность у них была маленькой, и коэффициент усиления небольшой — но для чисто логических схем таких параметров более чем хватало — а энергопотребление у них было раза в три меньше, чем у прежних, причем любых моделей. А еще они получились очень красивыми: там все сетки и проводники, размещенные в маленькой стеклянной колбе и выходящие наружу контакты были теперь золоченые (кроме покрытого рением катода, которого снаружи и видно-то не было), и каждый «желудь» выглядел как необычное женское украшение.
А я «придумал» для этих ламп оригинальное гнездо, по нынешним временам оно вообще должно было совершить переворот в науке о контактах. И, чисто теоретически, очень сильно двинуть вперед целую кучу других разработок оборонного назначения, о большинстве которых я даже понятия не имел. Но о том, что почти все эти разработки сталкивались с серьезными проблемами как раз из-за того, что пока мировая наука на этот вопрос внимания почти не обращала, я знал. То есть внимания не обращала в основном советская наука, а в той же фашистской Германии такими вопросами занимались три довольно немаленьких исследовательских института, и я был в курсе этого — но и о том, что все эти институты тоже ничего хорошего не придумали, тоже помнил.
Вот взять, к примеру, «классический» разъем типа ШР (который как раз немцы в войну и изобрели). То есть мы его потом возьмем, так как для ламп и прочих легкосъемных радиоэлементов не подходит по целому ряду причин, каждая из которых уважительнее другой. Возьмем просто штыревой разъем для обычных пальчиковых ламп. Простая же вещь, лампа в него легко вставляется и так же легко вынимается. Входит и просто замечательно выходит — вот только мало кто задумывался над тем, что и входит лампа в разъем не очень просто, и выходит с некоторым напряжением. Напряжением чисто механическим и вполне себе измеряемым: чтобы лампу в разъем вставить или вытащить их него, нужно приложить усилие от пяти до более чем десяти килограммов. Потому что есть такая забавная вещь, которая именуется контактным давлением.
Это давление вообще везде присутствует, где два предмета друг с другом контактируют, но меня интересовало контактное давление именно в электрических разъемах — а для медного или луженого контакта нормативное давление, обеспечивающее нормальный контакт уже электрический, должно составлять примерно килограмм на квадратный миллиметр. В принципе, немного, но для девятиштырьковой лампы, у который каждый штырь имеет контактную площадь порядка трех миллиметров, суммарное контактное давление уже находится в районе тридцати килограммов. И если лампа вставляется или вытаскивается, то это давление нужно как-то преодолеть. Конечно, если подобрать металлы максимально «скользкие», с коэффициентом трения в районе от трех и даже от двух десятых, то лампу нужно давить с силой килограммов в десять, а если ее при этом и покачивать, уменьшая «мгновенную контактную площадь», то и пяти кил хватит — но при таком покачивании разъем все же расшатывается и качество контакта ухудшается. Но это — простая радиолампа, а если это разъем на полсотни штырей? Поэтому в тех же разъемах ШР втыкание и растыкание производилось с помощью наружной гайки, которая нужна была вовсе не для того, чтобы разъем «потом не рассоединился», а чтобы просто контактные штыри впихнуть в гнезда или оттуда их выпихнуть. Но на лампу-то гайку не накрутишь!