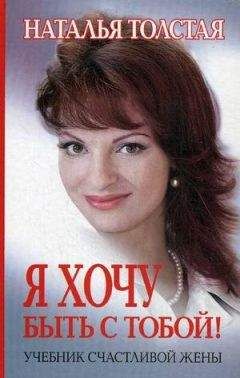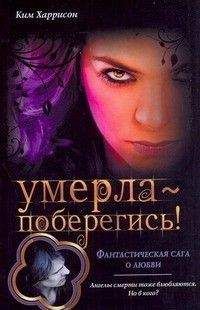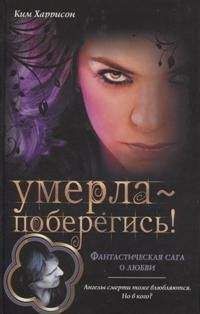Чак Паланик - Проклятые
Но теперь, когда выяснилось, что я умерла не от передозировки марихуаны… И Горан – вовсе не мой романтический идеал… А мои маккиавеллиевские планы причинили родным только боль… Оказалось, что не такая я умная. И это подрывает само мое представление о себе.
Даже сейчас я сомневаюсь, использовать ли такие слова, как «мировая скорбь», «культивировать» и «маккиавеллиевский» – так сильно поколебалась моя вера в себя. Моя гибель доказывает, что я идиотка, не Юная Умница, а самозванка, которая строила свою иллюзорную реальность из горстки умных слов. Эти словарные декорации были моей тушью, моим силиконом, моей физической координацией, моей уверенностью в себе. Эти слова служили мне костылями.
Быть может, лучше признать, как ты заблуждалась, в юности, чем утратить иллюзии в среднем возрасте, когда тебя покидают красота и молодость, когда ты уже не настолько сильная и энергичная. Быть может, и лучше, что сарказм и презрение еще не привели меня к полной изоляции от сверстников. И все же такая экстремальная поправка психологического курса мне кажется… жутко болезненной.
Осознав собственный душевный кризис, я иду по своим следам. Я возвращаюсь в камеру, где впервые появилась в аду. Мои руки болтаются, бриллиантовый перстень, подаренный Арчером, сияет мрачным ворованным блеском. Я больше не могу выставлять себя авторитетом по смерти, так что я удаляюсь в свой загон из грязных прутьев, чтобы искать утешения за замком, с которого соскребла грязь и ржавчину острая булавка мертвого панк-рокера. Мои проклятые соседи понурились, обхватив головы руками. Одни так давно застыли, словно кататоники, в позах жалости к себе, что их уже опутала паутина. Другие меряют клетку шагами, бьют воздух кулаками и что-то бормочут.
Нет, я еще успею стать смешной или артистичной, смогу энергично скакать по гимнастическим матам или декламировать меланхоличные шедевры. Однако, раз потерпев поражение в выбранной стратегии, я уже никогда не смогу соотносить себя с одной-единственной ролью. Стану ли я спортсменкой или стоунершей, стану улыбающейся физиономией с коробки пшеничных хлопьев или заливающей глаза абсентом авторессой, эта новая персона всегда будет казаться мне такой же фальшивой и нарочитой, как пластиковые ногти или татушки-переводки. Всю послежизнь я буду чувствовать себя такой же фальшивой, как «маноло бланики» Бабетт.
Соседние души так погрузились в ужас и отчаяние, что не могут даже отогнать мух, ползающих по их грязным рукам. Мухи свободно бродят по замурзанным щекам и лбам. Черные мухи, жирные, как изюмины, ходят по остекленевшей поверхности их застывших, одурманенных глаз. Никем не замеченные, мухи заходят в раззявленные рты, а потом выходят из ноздрей.
За прутьями других клеток души таскают себя за волосы. В гневе они разрывают на клочки и лоскутья свои тоги и ризы, свои горностаевые мантии, саваны, шелковые платья и твидовые костюмы с Сэвил-роу. Некоторые из них, всякие римские сенаторы и японские сегуны, умерли и были прокляты задолго до моего рождения. Они стенают от пыток. Они брызжут слюной, и от этих брызг в гнилом воздухе повисает туман. Их пот стекает ручейками по лбам и щекам, светится оранжевым в огненных сполохах ада. Жители Гадеса, они трясут руками и ежатся, грозят кулаками пылающему небу, бьются головами о железные прутья, пока их не ослепляет собственная кровь. Другие раздирают себе лица до мяса, выцарапывают глаза. Их надтреснутые хриплые голоса завывают. В дальних клетках, и в клетках за ними, и в следующих… Проклятые души сидят в клетках до самого пылающего горизонта во всех направлениях. Бесчисленные миллиарды мужчин и женщин в отчаянии вопят, выкрикивают свои имена, называются королями, порядочными налогоплательщиками, представителями угнетенных нацменьшинств или законными домовладельцами. В этой какофонии ада вся история человечества разбивается на протесты отдельных личностей. Они требуют своего права по рождению. Они настаивают на своей праведности и невинности, потому что они христиане, мусульмане или евреи. Филантропы или врачи. Мученики, или кинозвезды, или политические активисты.
В аду нас терзает именно привязанность к своей конкретной личности.
* * *Вдали по тому же пути, которым я совсем недавно вернулась, плывет ярко-синяя искра. Синее пятнышко, такое яркое на фоне оранжево-алого пламени, синий нимб, покачиваясь, протискивается между клетками с их кричащими обитателями. Голубая искра минует скрежещущих зубами мертвых президентов, игнорирует забытых императоров и монархов. Кусочек синего исчезает за горами ржавых прутьев, мелькает за толпами безумных бывших римских пап, скрывается за рыдающими низвергнутыми шаманами, отцами города и изгнанными хмурыми дикарями, а через мгновение возникает снова, становится еще немного больше и ближе. Синий предмет продвигается зигзагом по лабиринту отчаяния и безнадежности. Ярко-синий ныряет то в одно, то в другое густое облако мух. И все же он появляется снова, все больше и ближе, пока не превращается в волосы, поставленные в гребень на бритой голове и выкрашенные в синий цвет. Голова подскакивает на плечах в черной кожаной мотоциклетной куртке, которую несут вперед две ноги в джинсах и в черных ботинках. На одном из ботинок звякает цепь.
Панк-рокер Арчер подходит к моей клетке.
Под локтем, затянутым в кожу, Арчер несет конверт. Панк запихнул руки в передние карманы джинсов, а конверт зажал между локтем и бедром.
Кивнув прыщавым подбородком в мою сторону, он говорит:
– Привет!
Арчер бросает взгляд на окружающих. Те утонули в своих страстях, ханжестве и похоти. Отрезали себя от всякого будущего, от любых новых возможностей, заползли в раковину своей прежней жизни.
Арчер качает головой и говорит:
– Ты хоть не будь, как эти лузеры…
Ничего он не понимает. Ведь на самом деле я еще даже не подросток, я мертва и невероятно глупа – и к тому же меня навсегда сослали в ад.
Арчер смотрит мне прямо в лицо и говорит:
– У тебя глаза красные – что, псориаз совсем замучил?
Я врунья. Я говорю ему:
– Вообще-то у меня нет псориаза.
– Ревела?
Я такая врунья, что отвечаю:
– Нет.
Хотя не я одна виновата в том, что попала в ад. В свою защиту добавлю, что отец всегда утверждал: Сатана – это памперсы.
– Смерть – долгий процесс, – говорит Арчер. – С тела все только начинается.
В смысле, потом должны умереть твои мечты. Потом – ожидания. И злость из-за того, что ты всю жизнь учился всякой лабуде, любил людей и зарабатывал деньги, а в результате получил полный ноль. Нет, правда, смерть физического тела – это еще самое простое. Потом должны умереть твои воспоминания. И твое эго. Твоя гордость, стыд, амбиции и надежды, все это Супер-Личное Дерьмо может отмирать веками.
– А люди видят только то, – продолжает Арчер, – как умирает тело. Есть такая Хелен Герли Браун[24], так она изучила первые семь этапов того, как мы отбрасываем коньки.
Я переспрашиваю:
– Хелен Герли Браун?
– Ну, ты в курсе. Отрицание, торговля, гнев, депрессия…
Он имеет в виду Элизабет Кюблер-Росс.[25]
– Видишь, – улыбается Арчер, – какая ты умная… Не то что я.
Главное, что ты остаешься в аду, пока не прощаешь себя.
– Облажался – и ладно. Геймовер, – говорит Арчер. – Теперь просто расслабься.
Хорошо, что я не выдуманный герой в плену печатных страниц вроде Джен Эйр или Оливера Твиста. Для меня теперь возможно все. Я могу стать кем-то другим, не под давлением, не от отчаяния, а просто потому, что новая жизнь – это прикольно, интересно или весело.
Арчер пожимает плечами.
– Малышка Мэдди Спенсер мертва… Может, пора на новые приключения?
Из-под его локтя выскакивает конверт и падает на камни. На коричневой бумаге конверта красные печатные буквы: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Я спрашиваю:
– Что это?
Наклоняясь за конвертом, Арчер говорит:
– Это? Результаты теста на спасение, который ты сдавала.
Под каждым его ногтем темнеет серпик грязи. По лицу разбросана целая галактика прыщей, сияющих разными оттенками алого.
Под «тестом на спасение» Арчер имеет в виду тот странный тест на детекторе лжи, когда демон спрашивал меня, что я думаю об аборте и однополом браке. То есть в конверте написано, должна я быть в раю или в аду. Или даже лежит разрешение вернуться к жизни на земле. Я невольно тянусь к конверту, я не могу устоять, я говорю: дай сюда.
Бриллиантовый перстень, тот самый, который Арчер украл для меня, сверкает на пальце моей вытянутой руки.
Держа конверт за прутьями моей клетки, так, чтобы я его не достала, Арчер говорит:
– Обещай, что перестанешь кукситься!
Я тяну руку к конверту, стараясь не касаться грязного металла. Ничего я не куксюсь, говорю я.
Арчер трясет конвертом прямо перед моими пальцами.
– У тебя муха на лице! – смеется он.