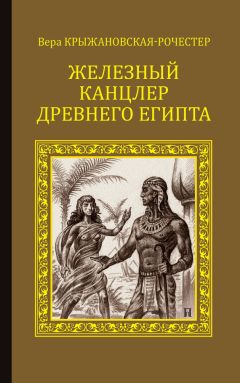Железный канцлер (СИ) - Старый Денис
Взглянув в очередной раз на объемную папку собранных за два года материалов на помещиков, а также и на отношение к крестьянам со стороны монастырей, я потребовал от своего секретаря позвать ко мне митрополита. Владыко вкушал в соседней комнате постные блюда, всякие котлетки из овощей.
Сам же я находился в своем кабинете и готовился к встрече с митрополитом Гавриилом, в лице которого рассчитывал заручиться поддержкой. Подготовка была и моральной и документальной, сейчас я раскладывал по порядку папки со многими документами и свидетельствами.
Вопросов было много, но главной проблемой я все же считаю старообядчество. Проблема старообрядчества такая сложная и многогранная, что сходу ее и не разрешить, да и универсального решения, как такового нет. Только иезуитские методы. Но все равно, уступки старообрядчеству неминуемы, а государственная конфессия не менее упертая в вопросе разрешения полуторавекового конфликта, чем и сами старообрядцы.
Без одобрения государя я, конечно же, даже не мог начинать работу в этом направлении. И это одобрение было мной получено. Среди тех, кто пел «Боже Царя храни» на дворцовой площади в ночь уничтожения заговора была одна из старообрядческих общин, в частности, пресловутая Преображенская. Этот факт стал доступным общественности, ну и, безусловно, император знал о таких вот своих «верноподданных».
И до моего назначения канцлером Павел Петрович уже поручал разработку указа, который примерил бы старообрядцев, ввел бы их в состав канонической русской православной церкви. Но там полумеры. Я же знал, что законы этого времени не так, чтобы и сильно повлияли на единение русского народа. Николай Павлович в иной реальности все равно начал новый виток гонений, причем отличающихся жестокостью.
Вот, получив карт-бланш от государя, который, так выходит, бросил меня на амбразуру упертости официальной Церкви, я начал действовать, используя старые наработки. Два года я готовился, собирал компромат даже на некоторых церковных деятелей, что, впрочем было не сложно, так как мало кто скрывает свои, считай, даже преступления.
— Михаил Федорович, пригласите ко мне владыку Гавриила, только с предельной вежливостью и учтивостью, — приказал я своему секретарю.
Я пробую уже третьего человека на посту своего секретаря. Два предыдущих претендента, которых я присматривал еще до вступления в должность канцлера, не справились с работой. Мне можно взять и двоих служащих, и в будущем я планирую создать небольшую канцелярию при себе, но сперва хотелось найти того специалиста, кто сможет тянуть схожий с моим объем работы.
И сейчас я испытывал одного из слушателей Невской семинарии, мелкого дворянина Михаила Федоровича Рогожина. Парень на испытательном сроке, но, как меня уверяли, он исполнителен и весьма преуспел во многих науках. А еще, что важно, — он чистый и ни с кем из влиятельных не водит дружбу. Неделю уже работает.
Нарекания есть, не без этого. Но так, как я работаю, по какой системе и с какой самоотверженностью, никто не трудится. И уже тот талантливый служащий, кто будет успевать за мной. Хотя, в идеале, секретарь должен думать на шаг вперед начальника, планировать встречи, даже распорядок дня.
— Владыко! — приветствовал я вошедшего в мой кабинет митрополита Гавриила. — Благослови!
Я поклонился и остался в такой позе, ожидая благословления.
— Благословляю тебя, сын мой. Великие дела ты задумал, пусть Бог помогает, — сказал митрополит и перекрестил меня, я же, в свою очередь, поцеловал ему руку.
— Отрапезничали, владыко, может еще чего изволите? — спросил я, так, для учтивости.
— Добрые у тебя травяные котлеты, да блины. Как и не постные вовсе, — сказал Гавриил и стал крутить головой, рассматривая мой кабинет.
Пока что здесь и не так, чтобы было на что посмотреть. Хотя, нет. Мебель, та, которую можно было бы назвать «офисной», сильно выделялась и всей номенклатуры шкафов, столов и всего остального. Еще был сейф. Большой, громоздкий, но такой нужный каждому начальнику. Имелись стеллажи для папок, все пронумеровано, существует общая номенклатура, дела разложены в алфавитном порядке. Люблю систему, а в этой жизни, так и вовсе доходит до неприличного. Самопишущее перо и то должно находиться исключительно на своем месте. И понимаю, что несколько перебарщиваю, но ничего с собой поделать не могу.
— Так, о чем говорить-то собирался, сын мой? — решил сразу перейти к делу митрополит. — До того тебе хватало разговоров в семинарии, нынче, яко начальствующая персона, вызвал меня.
— Владыко, не серчайте, до семинарии добраться нужно, одеться, приехать, все это много времени, а оно мне дорого. Но я спрошу вас, а все ли в порядке в церкви нашей? На своем ли месте она? Спасает ли души? — засыпал я вопросами Гавриила.
— Темнишь ты, сын мой. Чин превеликий получил, так решил, что вправе за Церковь браться? Пророком возомнил себя? — взбеленился Гавриил.
Я чуть откинулся на спинку удобного мягкого стула, почти кресла, и наблюдал за этим спектаклем. Было видно, что Гавриил играет, возможно, и проверяет меня, чтобы найти оптимальную модель поведения. Все же я канцлер. Но, с другой стороны, я его воспитанник, тот человек, который должен быть обязанным митрополиту. А еще вопрос пиетета. Ранее я все же несколько склонялся перед митрополитом.
И здесь неважно, видимо, что сорок тысяч рублей уже не ежегодно, а ежеквартально, я перечисляю Невской семинарии. К чести этого учебного заведения, они за мои же деньги уже второй год делают дополнительный набор, причем, по двум специальностям, в правоведческий класс, с изучением по моему пособию делопроизводства, а также в класс земледельческих управителей. Так что, большая часть денег от меня — это оплата обучения студиозусов, которые будут трудоустроены у меня же. Ну и оплата трех новых преподавателей по ботанике.
— Владыко, не серчайте, но скажу вам, как я вижу то, что происходит. Церковь забыла, что есть такое печалование, — увидев, что митрополит вновь хочет меня отчитать, я поспешил сказать. — Владыко, выслушайте! Не гоже мне будет действовать без того, чтобы с вами не обсудить, не рассказать, как поступать я собрался. Вы — мудрый человек. Но что, если я напишу статью в газетах? Я канцлер, мои записки издадут.
— А ты не пугай, Михаил, пужаный я. Говори, выслушаю, после слово свое скажу, — пробасил Гавриил, теряя свое благодушие.
— Печалование, как меня учили в стенах семинарии, есть одно из первейших дел церкви. Вступиться за убогих, потребовать справедливости, спасти обреченного. И я не говорю сейчас про заговорщиков, хотя тут церковь будет в своих правах так же печаловаться, я говорю за тех, кого приговорили уже давно, к кому нет никакой справедливости христианской, — говорил я под бурчание Гавриила.
Вопрос, который я поднял, фундаментальный, для России он наипервейший. Крепостное право — бич русского общества, становящийся все большим пережитком. Я собирался обкладывать эту проблему со всех сторон, показывать, рассказывать, что быть помещиком, который притесняет крестьян, — это быть плохим человеком. Историю Дубровского я пока не осилю написать, времени нет, но обязательно это сделаю, покажу, сколько низок и какая скотина Троекуров с барщиной и насилием над крепостными, и сколь человек высоких нравов тот самый Дубровский, который служит Отечеству, который поставил своих крестьян на оброк. Постараюсь описать контраст между образами двух помещиков еще более ярко, чем Пушкин. Пока цензуры нет…
Но книги — это хорошо, это работает, как и периодические статьи в газетах и в журнале, который я собираюсь учредить, вот только без церкви к этому вопросу я подобраться не могу.
— Ты хочешь, чтобы церковь стала защищать крепостных крестьян? Так она это делает, — сказал Гавриил.
— Не достаточно. Я предлагаю эту работу усилить, — сказал я и протянул три листа бумаги с проектом «Православного общества печалования».
Гавриил вчитался в строки.
Я предлагал в каждом генерал-губернаторстве создать общество, которое занималось бы помощью крестьянам. Нет, не только крестьянам помогать, а всем убогим и притесненным. Безусловно, категория крестьян по убогости и бесправности вне конкуренции. И речь не столько об экономическом вспомоществовании, хотя в случае голода, уверен, что и такое направление должно быть. Я о притеснениях крестьян, о помощи им в спасении от произвола помещиков.