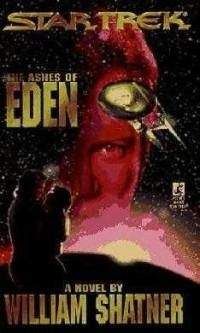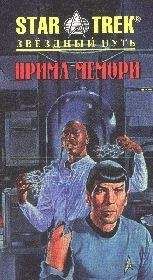Константин Шильдкрет - Розмысл царя Иоанна Грозного
Нагая, связанная по рукам и ногам, лежала боярыня на охапке заиндевелого хвороста.
— Неси! — рявкнул Замятня, выбегая из жарко натопленной бани.
Всю ночь женщину парили кропивными вениками. От духоты и невыносимой жары холопи валились без чувств. Их выволакивали вместе с боярынею на двор и, дав отлежаться, снова заставляли продолжать пытку.
А князь, никому не доверяя, раскисший от пота и едва живой от усталости, сам беспрестанно таскал в предбанник дрова и подбрасывал щедро в раскалённую печь.
С неделю пролежала боярыня в постели почти без всяких признаков жизни. Сабуров, уверенный в неизбежной смерти жены, объявил пост в усадьбе и послал за попами.
Но больная, наперекор ожиданиям, выжила.
Князь почти перестал бывать дома и беспросыпно пьянствовал у своего наречённого тестя.
Узнав, что боярыня поправляется, Тын стал заметно охладевать к Миколе Петровичу.
— А жёнушка твоя, бают, в церковь собирается, — с ядовитой усмешкой молвил он как-то гостю. — Образ жертвует в память чудесного исцеления.
Сабуров собрал ёжиком лоб.
— Дай токмо срок. Дьяк всё обмыслит.
И немедля собрался домой.
Трапезовал он, в первый раз после мови, вместе с боярыней.
Вдруг с шумом распахнулась дверь. На пороге, красный от возбуждения, появился тиун.
— Изловили людишки лиходея того!
Ложка вывалилась из рук боярыни. Князь, жалко съёжившись, слезливо поглядел на жену и, крадучись, бочком, выбрался в сени.
Вскоре он вернулся с батогом и верёвкой.
— Изловили, матушка, полюбовника твоего!
Холоп столкнул с лавки застывшую женщину.
— Изловили сердешного! — царапающе просверлил Микола Петрович и зло взмахнул батогом.
…После избиения боярыню заперли в подклет и там держали на хлебе и воде трое суток. Сам боярин никуда не отлучался из усадьбы до возвращения тиуна, отправленного им с тайным поручением в город.
Невесёлый вернулся тиун в усадьбу.
— Аль не сдобыл? — встретил господарь нетерпеливым вопросом холопя.
— Не сдобыл! Слёзно увещавал, милостей твоих богатых сулил, а не идут на удур. Проведают, сказывают, про то, что не было полюбовника у господарыни, — не токмо добра, сказывают, лишимся вашего, а не миновать и смерть приять.
Сабуров обдал тиуна полным презрения взглядом.
— А за службу твою быть тебе отсель во псарях!
Холоп покорно согнулся и приложил руку к груди.
— Дозволь остатнее рассказать.
Он порылся за пазухой и достал маленький свёрточек. Князь с любопытством поглядел на сжатый кулак тиуна.
— Нуте-ко!
— Дьяк тот поклон тебе бил да невзначай обмолвился…
— Не волынь, сказывай!
Холоп вытер рукавом нос и, подражая дьяку, загнусавил, не передыхая, с трудом заученные слова:
— А ежели жена помыслит извести зельем мужа, по праведному суду царёву положено ей за грех той смертный постриг приять, а либо обыщется сугубо вина её, волен муж ту жену и казнью казнить.
Задорная улыбка озарила лицо Сабурова.
— Како ходил ты в тиунах, Олеша, тако и дале ходи…
Перед вечерей князь пришёл в подклет. Женщина лежала лицом вниз на земляном полу и глухо стонала.
— Параскевушка, а Параскевушка!..
Замятня опустился на колени и нежно провёл рукой по спине жены.
— Прости меня, Христа для… Возвели злые люди потварь на тебя.
Не веря своему счастью, боярыня прильнула губами к поле кафтана и забилась в слезах.
Дождавшись, пока Параскева переоделась, князь сам пришёл за ней в светлицу.
— Для мира и дружбы попотчую яз ныне тебя лучшим березовцем да солодким вином.
Потрапезовав, они стали на колени перед оплечным образом Миколы и долго проникновенно молились…
Уже светало, когда истомлённая женщина вернулась к себе в светлицу из господарской опочивальни.
Растолкав сенных девушек, она порылась в скрыне и выбрала лучший кусок атласа.
— К полудню сробить князю рубаху с золотой росписью!
И, не раздеваясь, бросилась на постель.
Девушки закопошились на полу перед изрезанным атласом.
Задолго до обеда боярыня обрядилась в ферязь, летник с пышными рукавами и в красный опашень. На густо набелённом лице нелепо выделялись ярко раскрашенные толстые губы и точно прилепились непрочно, готовые полететь друг другу наперерез, две стрелочки начерненных бровей.
Прижав к груди гостинец мужу, Параскева неспокойно прислушивалась к каждому шороху, доносившемуся из сеней.
Постельничья уговорила господарыню сесть на лавку.
— Засеки меня, матушка, ежели не покличет тебя боярин.
Вдруг Параскева радостно всплеснула руками и, оттолкнув постельничью, бросилась к двери.
— Идут!
В дверь постучался тиун.
— Трапезовать, боярыня!
В трапезной, поклонившись до земли Миколе Петровичу, боярыня скромно уселась по левую руку мужа.
Холопи внесли ведёрко вкусно дымящихся щей.
Князь подставил свою миску, но тут же торопливо отдёрнул её и подозрительно поглядел на жену.
— А не примечаешь ли ты, Параскевушка, будто духом особным щи отдают?
И, зачерпнув из ведёрка, поднёс ложку холопю.
— Откушай.
Холоп перекрестился, с наслаждением хлебнул и отошёл к двери.
— Ты что вихляешься? — набросился на него тиун.
Но холоп не мог уже ответить; он с ужасом почувствовал, как каменный холод сковывает его ноги, подбирается к остановившемуся сердцу и деревенит язык.
Прежде чем отравленного вынесли на двор, он умер.
* * *
До Вешнего Миколы Параскева сидела в подвале, дожидаясь суда.
На допросе постельничья показала, что видела, как боярыня за день до смерти холопя передала сенной девке какое-то зелье. Тиун, ловчий и псарь целовали крест на том, что не раз заставали подле усадьбы потваренную бабу, сводившую Параскеву с каким-то проезжим молодцем.
Узницу приговорили к смерти.
* * *
Боярыню привели из губы в вотчину. У крыльца стоял Микола Петрович.
Увидев мужа, Параскева плотно закрыла руками лицо и крикнула, напрягая всю силу воли, чтобы не разрыдаться:
— Грех твой и на сём и на том свете стократ сочтётся тебе, душегуб!..
Князь побледнел и, судорожно вцепившись в руку Тына, с мольбой поднял к небу глаза. На мгновение в его душе шевельнулось что-то похожее на раскаяние и страх перед загробным судом. Из уст готово было вырваться слово прощения, которое развязало бы его сразу от содеянного греха, но откуда-то из глубины уже вынырнуло свежее личико Татьяны, и пряный, нестерпимо щекочущий запах её юного тела уже захлестнул сердце и мозг хмельной волной.
Не помня себя, Замятня подскочил к жене и рванул её за волосы.
— Нам ли страшиться блудного лая? А вместно нам исполнить древлее установление!
И, поднявшись на носках, охрипшим петушиным криком скребнул:
— Зарыть её в землю до выи!
Могилу вырыли на лугу. Боярыня послушно поддавалась катам, срывавшим с неё одежды, и как будто стремилась даже помочь им. Пустые глаза беспрестанно шарили по сторонам, удивлённо останавливались на людях, а лицо широко расплывалось в жуткой усмешке помешанной.
И только когда её опускали в землю, она вдруг вцепилась зубами в руку ката и воюще разрыдалась.
Холопи торопливо зарывали яму. Вскоре скрылись под землёю ноги, вздувшийся от голода живот и обвисшие, в синей паутине жил, груди.
Лицо Параскевы приходилось против чуть виднеющихся окон светлицы.
Боярыня напрягала всё существо, чтобы перекинуться немного в сторону и не видеть терема, в котором прожила долгие беспросветные годы, но земля цепко держала и не давала пошевелиться ни одному ослабевшему мускулу.
Всю ночь вотчина не спала от звериного воя, доносившегося с обезлюдевшего чёрного луга. Потом, под утро, вой перешёл в стрекочущий скрип, припал к земле, прошелестел ещё шелестом подхваченной ветром мёртвой листвы и оборвался.
В полдень, как требовал древлий обычай, пришли из губы богомольцы, низко поклонились зарытой до шеи женщине и бросили в шапку дозорного несколько полушек-скромное своё подаяние на гроб и погребальные свечи обречённой.
— Егда предстанешь на суд Господень, реки Господу, что благоговейно и со смирением отдали тебе свою лепту Микита, Фрол, Никодим, Илья, Нефёд…
По одному, крестясь и кланяясь, называли свои имена богомольцы и, просветлённые, уходили творить земные дела.
Когда боярыня умерла, её тело вырыли, обмыли и положили в гроб.
Микола Петрович после погребения приказал людишкам принести на боярский двор дичины и мёду.
Холопи снесли достатки свои господарю на помин души новопреставленной.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Под огромным навесом творил Василий из глины, камня и кирпича потешный город. Ивашка, перепачканный с ног до головы в грязь и известь, не отходил ни на шаг от отца. В редкие дни, когда в сопровождении дозорного приходила мать, мальчик немедленно засаживал её за работу.