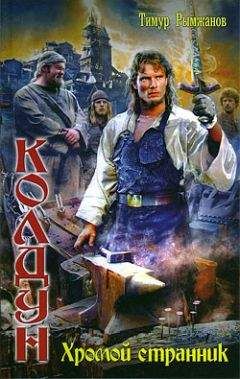Коварь (СИ) - Рымжанов Тимур
Вынув из сумки флакончик с настоем подорожника, который я уже успел окрестить «зеленкой», я лишь смочил им просушенный мох и приложил к ссадине на лбу пострадавшего. Других внешних повреждений на мужике явно не наблюдалось. Да, что уж говорить, суровые здесь нравы. А с другой стороны, что, в моем веке лучше, что ли? Те же гопники, сумочники, карманники. Людей порой просто выпихивали из машин, при свидетелях обирали, избивали. Эти бойкие карлики, хоть место укромное нашли, да убийством мараться не стали. Как говориться — не пошли на «мокрое дело». Думаю, что даже ринувшись на меня, рассчитывали не больше, чем просто оглоушить, да обобрать. Ан не вышло, не на того нарвались.
Я достал большую бутылку с зеленой меткой. В ней, я держал не самое качественное спиртное, лишь то что оставалось после выгона основного сусла, но и в этом было градусов десять — пятнадцать. Настоянное на рябине оно совершенно не пахло сивухой, да и на вкус оказалось приятным. Я отпил, сделал три или четыре глотка, занюхав ядреную настойку еловой шишкой, упавшей на дровни как раз под руку. Заткнув горлышко флакона большим пальцем, я опрокинул бутылку донышком вверх и пустил тоненькую струйку в рот оглоушенному мужику.
Реакция последовала мгновенная. Взревев как медведь, кашляя, отплевываясь, выпучивая глаза, мужик вскочил на ноги, ссутулился и стал озираться по сторонам.
— Зашибу! Заломаю! — ревел возница потрясая кулаками.
— Опоздал дядя. Досталось тебе только пожитки собирать.
— А ты еще кто? — возмутился было возница, да притих, еще больше пригибаясь, когда я поднялся из саней в полный рост.
— Мое имя Артур.
— Половец… — вдруг попробовал уточнить возница да оборвал себя на полуфразе, осев со стоном прямо в снег.
— Варяг.
— Ефрем я. Коломенского купца Федора приказчик, — торопливо представился он, пробуя встать.
— Что ж ты Ефрем, один, да без охраны, в такой путь направился. Коломна-то, она не близко, верст полтораста?
Почавкав ртом, приказчик распробовал-таки рябиновую настойку, что я попытался в него влить, накинул нагайку петлей на запястье и просяще потянулся за бутылкой. Жадно выхватил из моих рук и как прожженный алкоголик запрокинул в глотку. Это не медовуха, в которой, с горем пополам, бывало градусов пять, так что примерно на половине бутылке, захлебнувшись, Ефрем остановился.
— И отец мой дорогой этой хаживал, и дед мой дорогой этой хаживал, и я каждый куст по пути этому знаю, и столькие года дорогой этой езжу, и никогда худого не случалось.
— Все однажды бывает в первый раз, Ефрем, вот и на твою удаль лихие люди сыскались. Повезло тебе мужик, что я той же дорогой шел да босяков этих усмирил.
— Из-за сумета выскочили, вицей хрясь да по роже…
— Спасибо скажи, что вообще не прирезали, вон на меня с сабельками набросились, да не сдюжили.
Потряся головой, Ефрем чуть пошатнулся, шмыгнул носом и стал оправлять одежду. Шуба на нем надета дорогая, то ли бобровая, то ли медвежья, я не разобрался. Под шубой замшевые штаны, с меховой подстежкой, сапоги с каблуком, шапка каракулевая, малость потрепанная, затертая. Поверх холщовой рубахи под шубой виднелась расшитая душегрейка из стриженой овчины без рукавов. Ворот рубахи распахнут, золотой нательный крестик грамм в пятьдесят, на крученой кожаной бечевке. Усы и брода с проседью, ухоженные. Волосы на голове хоть и сальные, но тоже прибранные, подрезанные, нос картошкой, щеки румяные, глаза хулиганские, очень живые и выразительные.
Прикрыв ладонью крестик, Ефрем помял его в руке и с каким-то благоговейным ликованием заявил:
— Вот оно, мое спасение. Мой оберег. Вот за долгий век случилось худое, да тут бог послал спасителя, да ни кого-нибудь, а монаха.
— Ого! Друг мой, сильно тебя дрыном по голове приложили. Ты что плетешь. Ты это меня за монаха что ли принял? В здешних краях меня Аредом кличут, чуть ли ни оборотнем считают, а ты с пьяных глаз сразу в монахи.
— Во как! А не по твою ли душу говорили, что на болоте ты хоронишься, нелюдим?
— Может и по мою. Что скрывать, вот таков я и есть.
— Сказывали, сказывали, да вот только я ни одному слову не верил. Смерды брехать большие мастера. Говорили, что дескать в конце лета явился, словно из темноты как тать ночной в Крынцы великан, что бес, уж дворовые его и вилами били, цепами били, и топорами били, а все убить не могли. А он злое бормочет, худо зазывает, да все скалится! В четыре стороны рукавами махнул да сгинул! С тех пор хворь на Крынцы пала лютая, те кто сдюжили, ушли к Коломне, других померших с домами так и сожгли.
— Ну, это ты небылицы какие-то рассказываешь, мил человек. Как же так и топорами били и цепами били и вилами кололи, а убить не могли⁉
— Ну вот эти, мордва — приказчик указал рукой на побитых, увязанных налетчиков. — Ведь тоже и с сабельками, да кольями на тебя шли да не убили. Это шестеро-то супротив одного!
— Им просто чертовски повезло, что оружия я не ношу. Не то по кускам бы сейчас с дороги их сгребали.
— Вот еще, стал бы я об эту погань мараться!
— Ладно, приказчик, что стоять мерзнуть, может уж пора в путь.
Как бы вдруг вспомнив что действительно был прерван на важном деле, Ефрем стал бегать вокруг саней собирая разбросанные по снегу пожитки. Бегал, причитал, то и дело сплевывал, злобно глядя на плененных. Наконец собрал все, кое-как распихал, по мешкам да тюками и пошел отвязывать лошадь. Я прошелся по округе, нашел еще брошенные вещи налетчиков. Среди прочего барахла с удивлением обнаружил лыжи. В первый момент даже не понял, что нашел, лишь сообразив устройство креплений, допер что это дальние родственники современных лыж, вот только без палок. Резонно решил, что налетчикам они больше не понадобятся, а мне в самый раз будут, чтоб не выгребать из сугробов по пояс, рискуя вымокнуть в ручье или луже, укрытой под снегом. На болотах такие мокрые ямы часто попадались.
Из-под сена, наваленного на дровнях Ефрем вытащил седло, другую сбрую, и стал запрягать лошадь.
— Ты что же мил человек, сани с поклажей решил бросить?
— Да что ты! Как же я свое добро брошу⁉ Сани, вон мордва поволочет, я верхом, а ты тюки подомни да устраивайся поудобней. — нахмурив брови приказчик погрозил плетью пленникам и громко рявкнул. — А кто не захочет вшестером сани везти, те впятером потащат!
Подтянув подпруги, Ефрем опять выклянчил у меня бутылку, но в этот раз не налегал, сделал всего пару глотков. Осмотревшись по сторонам, разрезал веревки пленников и, кряхтя, взгромоздился на лошадь. Я лишь запахнул полы балахона и с удовольствием растянулся на вещах купца, нагретых ярким солнцем.
Впряженные в сани, шестеро плененных с трудом, но все же потащили в гору тяжелые дровни. Ефрем, гарцевал рядом с ними, то и дело, погоняя плетью. Ни один из них не посмеет сбежать. Далеко по рыхлому и глубокому снегу не ускачешь хоть вприпрыжку хоть галопом. Они и по дороге-то плелись еле-еле. Не знаю почему, но я совершенно не испытывал жалости к этим людям. Я даже не думал о том, какие причины заставили их выйти на большую дорогу. Нужда, голод, просто человеческая жадность. Точно также, я не понимал, почему Петр занимался таким же лихим промыслом. На любого грабителя рано или поздно находится управа. Петр заплатил жизнью за свои грехи. Что будет с этим шестью мордовцами — неизвестно. Я только понаслышке знал местные законы, да и те в общих чертах сводились только к сиюминутному настроению князя. Если выяснится, что эти люди чьи-то, холопы, невольники, дворовые, то и ответственность нести будет их хозяин. Если же окажется что вольные, то, вся их вольница уже закончилась. И это в лучшем случае. Успел, однако, узнать из разговоров, что смертная казнь как таковая за провинности и прочее, здесь не культивировалась. Это немного не сходилось с теми представлениями о средних веках, что я имел прежде, но в целом выглядело все вполне логично. Зачем убивать человека, даже преступника, если можно его использовать. В крепости, полным-полно грязной и даже опасной работы, на которую не всякий вольный соглашается. Действительно, слой, так называемых, городских жителей, здесь только формируется. Нет еще того, четкого разделения труда. Этот хлеб выращивает, а этот ремеслом живет. Насколько я смог понять, город строился от центральной власти. То есть от княжеского дома. Собственно, сам князь, с семьей и родственниками. Охрана, прислуга, невольники — не в счет. Следом бояре. Приближенные к князю люди, сами имеющие и собственные деревни и каких-то ремесленников в городе, возможно, что даже торговые точки, склады, погреба, наряду с княжескими запасами. Вот вокруг этой властной ячейки и формировалась вся крепость. Нет еще касты профессиональных военных, искусство которых бы передавалось из поколения в поколение. Нет класса городских жителей, с корнями вырванных из деревенской жизни. Теснота крепостных стен ограничивает жизненное пространство, лишает возможности жить натуральным хозяйством. Выходит, что требуется искать дохода в других видах деятельности. Чиновники, военные, ремесленники, строители, обслуга, складские служащие, писари. Если прежде о таких мелочах и задумываться не приходилось, то сейчас надо было разобраться и усвоить для себя необходимость таких изменений. Формирование городов-крепостей меняет структуру общества. Это уже не первобытнообщинные отношения, это уже разветвленная социальная структура.