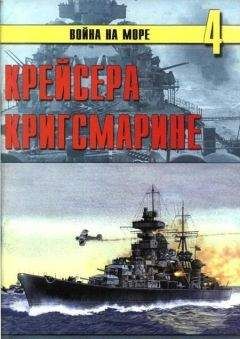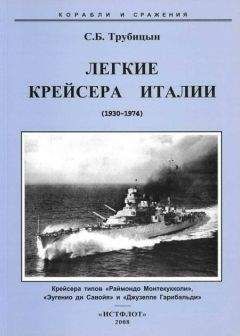Василий Аксенов - Остров Крым
— Это правда, Витольд Яковлевич, что вы в 36-м году встречались со Сталиным? — спросил он.
— Мальчики, мальчики… — Старик по инерции покачал пальцем с лукавой укоризной, но явно был напуган.
— Я редактор и издатель «Русского Курьера», вон той газеты, что лежит у вас на столе.
— Помилуйте, Андрей Арсениевич! — Старик всплеснул руками, изображая невероятную политическую хитрость. — Да кто же не знает!.. Кто же не ценит!.. Вы даже не представляете, как мы здесь, на чужбине, радуемся родному слову, будь то московская «Правда» или симферопольский «Курьер»! Мы, рус…
— Я бы вас попросил, Витольд Яковлевич!.. — Несмотря на сослагательное наклонение и многоточие, эта фраза Лучникова прозвучала немыслимой дерзостью, а, подкрепленная последующим странным жестом, легким, в четверть силы, пожатием стариковского запястья, обернулась едва ли не ультиматумом — дескать, кончайте балаган.
Генерал после этой фразы и жеста резко изменился. Быстрая, энергичная смена очков, вместо синеватой лукавой дымки чистые и сильные линзы, — само внимание.
— Я вас слушаю, господин Лучников. Начался быстрый диалог, во время которого Петя Сабашников, тоже мгновенно перестроившись, живейшим образом реагировал, вскидывал брови, делал умное лицо, энергично кивал или отрицательно потряхивал легкой дворянской головой.
Лучников: Мы выражаем Идею Общей Судьбы.
Фон Витте: Кого вы представляете?
Лучников: Определенное интеллектуальное течение.
Фон Витте: Именуемое?
Лучников: Именуемое Союзом Общей Судьбы. Аббревиатура — СОС.
Фон Витте: Браво! Это действительно находка — СОС! Однако кого же вы…
Лучников: Ваше превосходительство, ни одна из разведок мира за нами не стоит.
Фон Витте молчит. Глаза за линзами бессмысленно увеличиваются.
Лучников: Вам, должно быть, это трудно представить?
Фон Витте молчит. Глаза осмысленно сужаются.
Лучников: Наша сила в полной гласности и…
Фон Витте: Почему вы запнулись?
Лучников: … и в готовности к любому повороту событий.
Фон Витте: Я бы произнес слово «обреченность»…
Лучников: Теперь моя очередь вас поздравить. Браво, генерал!
Обмен ироническими улыбками прошел, что называется, «на равных».
Петр Сабашников, сообразив, что клоунада совсем уже закончилась, встал и отошел в тот угол кабинета, где за стеклом аквариума глазели на происходящее декоративные рыбы и в клетках чирикало несколько русских птиц, должно быть, подарки комсомольских организаций Урала.
— Быть может, теперь, ваше превосходительство, мой вопрос о Сталине покажется вам более уместным, — сказал Лучников. — Меня интересует, как реагировал вождь прогрессивного человечества на идею объединения.
— Вопрос, быть может, и уместен, но ирония в адрес Иосифа Виссарионовича совершенно неуместна, — строго сказал фон Витте.
— Если вы не захотите ответить на мой вопрос, генерал, значит, вы полное говно. — Лучников любезно улыбнулся.
Крепкое словцо было воспринято как шутка. Широчайшая улыбка застыла на лице фон Витте. Правая коленка исторического деятеля дергалась. «Должно быть, сигнализация срабатывает не сразу», — подумал Лучников.
Открылась дверь кабинета. Рядом с секретарем маячили теперь два плечистых парня в клетчатых пиджаках.
— Ай-я-яй, Витольд Яковлевич, — покачал головой Сабашников. — Я вас всегда держал за человека со вкусом. Ай-я-яй, батенька, фи-фи-фи…
— Это, должно быть, комсомольцы Урала? — спросил Лучников, разглядывая молодых людей.
— Позвольте мне задать вам встречный вопрос, господин Лучников. Для чего вы спрашиваете о Сталине? — Генерал взирал на визитера с ложной любезностью, которая, разумеется, предполагала за собой угрозу.
— Нам приходится иметь дело с наследниками генералиссимуса, — усмехнулся Лучников.
— Ах, Витольд Яковлевич. Витольд Яковлевич… — продолжал укорять генерала, словно нашкодившего мальчика, Сабашников. — Пугаете нас тремя мускулистыми гомосеками. Это безвкусно…
— Что за вздор, Петяша? — Фон Витте и в самом деле говорил слегка шкодливым тоном. — Молодые люди — мои служащие…
— Хотите знать, генерал, почему я вас считаю говном? — светским тоном осведомился Лучников и стал развивать свою светскую мысль, прогуливаясь по кабинету, в котором теперь уже отчетливо виделись ему признаки упадка и гниения, умело, но не бесследно прикрытые спешной уборкой:
отставшие обои с мышиным запашком, радиосистема пятнадцатилетней давности да еще и с отломанными ручками, на карте мира треугольник пылищи едва ли не в палец толщиной, случайно, видимо, обойденный мокрой тряпкой и сейчас под лучом солнца нависший над желтоватыми от ветхости льдами Гренландии.
— Вы — говно, потому что вы слишком рано отдали свои идеалы. Вы дрались за них не больше, чем Дубчек дрался за свою страну. Дубчек, однако, хотя бы не продался, а вы немедленно продались, и потому вы в сотни раз большее говно, чем он. Вы еще прибавили в говенности, ваше превосходительство, когда взяли за свои идеалы слишком малую цену. Поняв, что продешевили, вы засуетились и стали предлагать свои идеалы направо и налево, и потому говно в вас еще прибавилось. Итак, сейчас, к закату жизни, вы можете увидеть в зеркале вместо идейного человека жалкого, низкооплачиваемого слугу трех или четырех шпионских служб, то есть мешок говна. Кроме всего прочего, даже и сейчас, встречая сардонической улыбкой слово «идеалы», вы увеличиваете свою говенность.
Наемные бандиты во время этого монолога вопросительно заглядывали в кабинет: должно быть, никто из них не понимал по-русски. Генерал же явно слабел: политическая хватка покидала его, напряжение оказалось слишком сильным — челюсть отвисла, глаза стекленели.
Лучников и Сабашников беспрепятственно вышли из квартиры и через несколько минут оказались за столиком кафе на тротуаре Елисейских Полей.
— Мне немного стыдно, — сказал Лучников.
— Напрасно, — сказал Сабашников. — Старая сволочь вполне заслужила твое словечко. Как это могло ему прийти в голову поразить наше воображение такой стражей? Даже если предположить, что он побаивается тебя, то ведь меня-то он уже сто лет знает как жантильного человека. Сколько раз в его смрадной норе играл я с ним в «подкидные дураки»! А он, видите ли, изображает из себя Голдфингера!
Сабашников ворчал, двигая перед собой из руки в руку бокал «кампари-сода», в этот раз, кажется, не играл, а на самом деле злился.
Между тем наступал волшебный парижский час: ранний вечер, солнце в мансардных этажах и загорающиеся внизу, в сумерках витрины, полуоткрытый рот Сильвии Кристель над разноязыкой толпой, бодро вышагивающей по наэлектризованным елиссйским плитам.
— А вот тебе, Андрей, я тоже приготовил словечко, — вдруг, словно собравшись с духом, после некоторого молчания проговорил Сабашников. — Помнишь наше гимназическое «мобил-дробил»?
— Ну, помню, и что? — хмуро осведомился Лучников. Разумеется, он помнил весьма обидного «мобила-дробила», которым они в гимназии награждали туповатых и старательных первых учеников, большей частью отпрысков вахмистров и старшин.
— А вот то и значит, что ты, кажется, на своем ИОСе и на своем СОСе становишься настоящим «мобилом-дробилом».
Престраннейшим образом Лучников почувствовал вдруг едкую обиду.
— Кажется, ты сейчас не шутишь, Сабаша.
— Да вот именно не шучу, хотя и редко это со мной бывает, но вот сейчас, понимаешь ли, не шучу и не играю и потому только, что ты, мой старый Друг, стал таким «мобилом-дробилом»!.. Неужели ты все это «так серьезно, Андрей? С такой звериной, понимаешь ли, серьезностью? С такой фанатической монархо-большевистской идейностью? Ты ли это. Луч? Неужели вся жизнь уже кончается, вся наша жизнь?
— Я всегда держал тебя за единомышленника, Сабаша, — проговорил Лучников.
— Да, конечно же, единомышленники! — вскричал Сабашников. — Но ведь именно по несерьезности мы с тобой единомышленники. Да ведь мы даже в Будапеште с тобой шутили, а ведь критики наши в адрес мастодонтов вообще без смеха нельзя читать. Также ведь и Идея Общей Судьбы… конечно… я не отрицаю, все это серьезно!… как же иначе… но… но ведь все-таки… хотя бы… хоть немножечко несерьезно, а?
Он выжидательно замолчал и даже как бы заглянул другу в глаза, но Лучников выдержал взгляд без всякого гимназического сантимента, с одной лишь нарастающей злостью.
— Нет, это совсем серьезно.
— Ты отравлен, — тихо, на полном уже спаде проговорил Сабашников.
Дикая злость вдруг качнула Лучникова.
— Выродки, — проговорил он, как бы притягивая ускользающие сабашниковские глаза. — Твоя возлюбленная «несерьезность», Сабаша, сродни наследственному сифилису. Прикинь, во что обошлись русскому народу наши утонченные рефлексии. Вечные баттерфляйчики на лоне природы! Да катитесь вы вес такие в жопу!