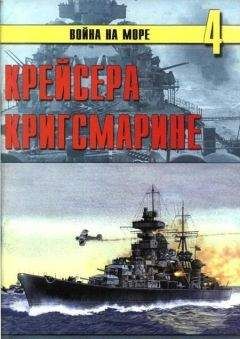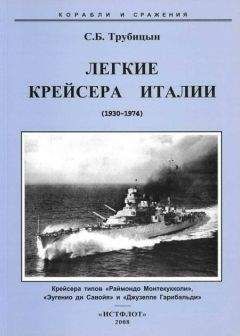Василий Аксенов - Остров Крым
— Мирра оф Москоу, — сказал Букневски. — Леди МХАТ. Рука дискобола через стол легла на плечо Володи Гусакова. Лучников вдруг заметил, что маленькие глазки Джека не сияют, как обычно, а просвечивают холодноватой проволочкой У. Только тогда он понял, что это не просто дружеский обед, начало очередного парижского загула, что у Октопуса что-то серьезное на уме. Он смотрел то на Джека, то на Володю Гусакова. Новые эмигранты для всего русского зарубежья были загадкой, для Лучникова же — мука, раздвоенность, тоска. По сути дела, ведь это были как раз те люди, ради которых он и ездил все время в Москву, одним из которых он уже считал себя. чью жизнь и борьбу тщился он разделить. Увы, их становилось все меньше в Москве, все больше в парижских кафе и американских университетских кампусах. В Крым они наведывались лишь в гости или для бизнеса, ни один не осел на Острове Окей: не для того мы драпали от Степаниды Власьевны, чтобы снова она сунула себе под подол.
Он хотел было что-то сказать Володе Гусакову: дескать, напрасно вы обижаетесь, я не над вами смеюсь, а над собой… Но вдруг пронзило, что Володя Гусаков и его жена Мирра Лунц не поймут ничего, что бы он ни сказал, как бы он ни сказал, на каком бы языке, хоть на самой клевой московской чердачной фене. Вот она, пропасть, это и есть тот самый шестидесятилетний раскол в глыбе Общей Судьбы.
— Вы русские мазохисты, — засмеялся Джек. — Андрей и Володя, как знаток славянской души я вас развожу на десять минут.
Он встал, положил одну руку на плечо «неизвестной девушки» — пойдем с нами, пуссикэт, — и подмигнул Лучникову: надо, дескать, обмозговать наши делишки. Лучников, однако, уже понимал, что разговор пойдет о другом.
Конечно, этот поход вниз, в бар, затянулся не на десять минут, а на все тридцать. Разумеется, в «липповском» баре оказалось у Хэлоуэя не менее трех знакомых, как раз не менее и не более трех человек восседали там на табуретках. Один из знакомых, некий гонкуровский лауреат, похожий скорее на пьянчужку-часовщика, чем на утонченного французского писателя, оказался к тому ж лучшим другом Октопуса, и это тоже было нормально, потому что из трех знакомых один всегда был его лучшим другом. С барменом тоже было какое-то общее прошлое, какие-то сложные отношения, возникшие в последний приезд, какая-то жалоба какого-то месье Делану, визиты комиссара Привэ, который все-таки оказался, как и предполагал бармен, хорошим парнем, месье Октопу ошибался на его счет, но, во всяком случае, на теперешний момент никакие неприятности в VI арандисмане Парижа ему не угрожают, потому что месье Привэ полностью соответствует своему имени, это «Привэ», это старая Франция, месье Октопу, где люди умели смотреть друг другу в глаза и понятия не имели о кошмарных чудищах социализма, компьютерах, месье, наступающих на нас, прошу понять меня правильно, из Америки, а вовсе не из России, как полагают некоторые, эти чудища социализма, хранящие память обо всех твоих пустяковых прегрешениях, месье, будь это перевернутый столик в кафе, или пощечина негодяю, или грошовое полотенце, пропавшее в отеле, как это случилось с одним польским профессором, вот такое чудище сыскного социализма, месье, установлено сейчас и в VI арандисмане Парижа, месье, но вы туда не попали, благодаря месье Привэ, корректман. Тут еще «неизвестная девушка» стала бунтовать, увидела в окне свою соблазнительную подружку и хотела убежать вслед за ней, и Хэлоуэю пришлось держать ее обеими руками за попку и горячо убеждать почему-то по-испански в бессмысленности и малой эффективности лесбийской любви.
— Слушай, ты мне надоел, Осьминог, — сказал наконец Лучников, он стал уже поглядывать на часы — как бы не опоздать к генералу Витте.
Джек тогда выпустил свою девчонку, отвернулся от бармена, прикрыл ладонью ухо, в которое время от времени что-то бормотал ему гонкуровский лауреат, матюкнулся на всех доступных ему языках, а их было не менее десятка, затем в стиле президента Никсона положил Лучникову руку на плечо и стал выкладывать свое деловое предложение, от которого! Лучников едва не свалился на пол.
— … Послушай старина мне это надоело ты знаешь сколько я башлей нагреб за последние годы но я клянусь тебе вот этой правой своей рукой которой делаю Андрэ все свое основное вот этой незаурядной ручищей которая мне нужна хотя бы для того чтобы расстегнуть ширинку что я ворочаюсь в этом вшивом бизнесе живых картинок вовсе не для денег ну я вижу ты уже улыбаешься предвкушаешь как старый Октопус заговорит сейчас об искусстве но я не заговорю хотя и не вижу причин для застенчивости не заговорю хотя бы потому чтобы ты старая лошадь с голубой кровью не стала хихикать над ребенком филадельфийского дна да я был ребенок филадельфийского дна а ты не знал разве о моем ужасном детстве так вот я тебе скажу хотя бы только то во что ты надеюсь поверишь а если не поверишь я сброшу тебя со стула и вызову месье Привэ а тот упечет тебя в свой социалистический компьютер и тебя больше уже никогда не пустят в Париж и ты будешь как Вечный Жид носиться тысячелетия по спиралям вокруг Парижа но никогда уже сюда не попадешь из-за непотребного поведения в баре ресторана «Липп» или будешь торчать и выть на своем Острове Окей пока не придут красные так вот я тебе скажу что я кручу свою машинку не для себя а чтобы давать пропитание всей этой безобразной сволочи которая меня окружает и чтобы осуществлять мечты всей этой международной неблагодарной мрази то есть моих друзей и если ты и в это не поверишь клянусь своей пятой конечностью тебя милейший сегодня же вышлют из Парижа и прикуют цепью к статус Маркса возле гостиницы «Метрополь» и ты будешь там сидеть вплоть до того как начнется твоя любимая Общая Судьба а потом коммисы в знак благодарности удовлетворят тебя батоном докторской колбасы и сошлют в вечные льды Йошкар-Олы чего надеюсь никогда не случится потому что я тебя люблю и ты мой лучший без всякой брехни друг по всем материкам и я твой раб…
Сказав вес это в безупречном стиле прежних пьянок, Джек Хэлоуэй внезапно заговорил, как трезвый.
— Я, знаешь ли, недавно прочел твою книгу «М — русские? «. Сногсшибательно! Все эти психологические курьезы. Это свойственно, быть может, только вам, русским. Англичане, колонизируя острова и прочие пространства, тут же начинали стремиться к отделению от метрополии. У вас второе поколение спасшихся, не говоря уже о третьем, начинает мечтать о суровых объятиях передового, хотя и самого тупого, народа в истории. Суисидальный комплекс, нравственная деградация… но как вес это преподносится в твоей книге! Браво, Андрей, ни в журналистском мастерстве, ни в мистическом чувстве истории тебе не откажешь. Ей-ей, татарская сперма отравила вашу аристократию навсегда. Скажи, только честно: воссоединение с Россией, то есть поглощение Крыма Союзом, — это действительно твоя мечта или это… ну… или это такой твой политический прием? Мы не виделись несколько лет, дружище. Я хотел бы знать, что у тебя за душой.
Хэлоуэй пожирал Лучникова глазами. Две проволочки W накалились уже добела, и свет их гасил цветовую мешанину бутылок на стене бара и окон, открытых на Сен-Жермен-де-Пре. Мир выцвел и теперь полыхал в черно-белом интенсивном свечении. Мрак благородными складками висел прямо над головой. Лучников ощущал пожатия дистонии.
— Я никогда не говорил с тобой, Джек, на такие серьезные темы, — проговорил он. — Я предпочел бы и дальше, Джек, держать тебя за своего старого друга Октопуса…
Хэлоуэй усмехнулся, да так, что Лучников подумал: тот ли это человек, которого он знал, вправду ли это Октопус?
— Андрей, нет-нет, нельзя так долго не встречаться. Ты, должно быть, не все понимаешь. Ты понимаешь хотя бы то, что любой другой политический писатель в мире отдал бы много за такую беседу со мной? Ты не понимаешь, дурачок, что у меня к тебе предложение? Деловое предложение?
— Что у нас общего? — Лучников нажимал пальцами на глазные яблоки, но краски мира не возвращались. Тогда он выпил залпом двойной коньяк — и сразу все стало на место. — Если тебя интересует реклама, то «Курьер» и так отводит много места твоим фильмам, Лючия не сходит с наших страниц… «Жемчужина Острова», что ты хочешь…
— Чудак! — прервал его Хэлоуэй. — Мое предложение стоит подороже таких шлюх, как Лючия. Мы можем с тобой, Андрэ, воссоединить Остров с Россией!
— Что ты мелешь? — Лучников напружинился, схватил Октопуса за запястье, заглянул в глаза. — Что означает этот вздор?
— Месье Гобо, у вас немножко слишком отросло правое ухо, — сказал Хэлоуэй бармену, который на другом конце стойки занимался подсчетами. — Пройдемся, Андрей, по чистому воздуху. Терпеть не могу, когда у человека в моем присутствии отрастает ослиное ухо.
На бульваре американец взял Лучникова под руку, в некое подобие стального зажима и, увлеченно размахивая свободной рукой и, заглядывая в глаза, стал развивать идею.