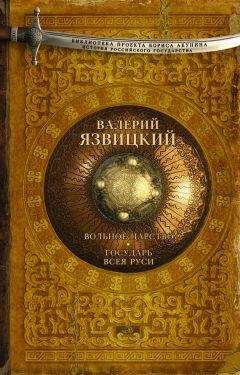Валерий Рогов - Претендент на царство
Силкин у заднего окна «мерседеса», стянув свой двухкозырьковой кепи и обнажив лысину, бурно жестикулировал, видимо, в пристрастии и гневе излагая Ордыбьеву перипетии случившегося. Несомненно, поносил меня самыми последними словами, внушая грозному Арсанычу, что прикатил я сюда с компроматом, чтобы шантажировать. Безусловно, пугал: мол, вот-вот объявятся мои вооружённые дружки, вызванные по радиопередатчику, набалтывал и всякую другую белиберду. И хотя всё это было бесконечно далеко от истины, как от окских берегов до луны, но разве докажешь обратное, разве поверят новые господа в то, что завернул я сюда больше из любопытства, из убеждённого неприятия нынешней эпохи, чем ради какой-то там с ними разборки.
Однако как же выпутываться из этой отчаянной ситуации? — уныло соображал я. Было ясно, что с мафиози нормальный диалог исключён, а мои искренние объяснения они вряд ли воспримут, наоборот, их подозрительность возрастёт. Впрочем, решил я, буду говорить правду. Только она и может спасти…
Из «мерседеса», между тем, никто не выходил, а грузный Силкин вдруг с подобострастной торопливостью, вперевалку, той же бабьей побежкой, засеменил к «гранд-чероки». На бегу обеспокоено кричал: «Родька! Ромка! Где вы, сволочи? Сматываем отсюда!» Те тут же кинулись к машине, едва удерживая на поводках скачущих, лающих псов.
Я ждал, что граф прикажет что-то и мне, но тот даже и не взглянул в мою сторону. «Гранд-чероки» взревел и рванул, прямо-таки прыгнул, — и понёсся по сухостою, взлетая на кочках, словно гигантский кузнечик: подальше от затеваемой разборки…
Глава десятая
В одиноком луговом просторе…
Я чувствовал себя ознобисто одиноким в ветреном просторе окских заливных лугов. Из «мерседеса» и теперь никто не выходил, и я догадался, что там ждут, когда я сам направлюсь к ним, прежде всего к Ордыбьеву, а может быть, приезда моих дружков. Что ж, ждите! — возмутился я. Гордыня взыграла во мне, и я ни за что не желал идти на поклон к самозваным господам. Конечно, понимал всю призрачность своего фрондёрства, однако гордыня очень часто выше нашего рассудка.
Прислонившись спиной к машине, закурив, упрямо, по прямой глазел в даль: на окровавленные перышки утиного селезня под вычурным, как бы черепичным навесом — остатки собачьего пиршества; на спокойно, безмятежно плавающее по нефритовой глади утиное семейство — селезней и самок, совершенно равнодушных к трагической судьбе сородича.
«Где же его одинокая, как мысль в мироздании, самочка? — навязчиво вспоминалось вычурное сравнение. — Его неразлучная подруга? Или утки так же забывчивы, как и наши возлюбленные?»
Моя мысль непроизвольно перескочила на судьбы человеческие, и хотя человеческая смерть сопровождается горечью утраты, слезами печали, но и это удручающее состояние проходит, всё забывается, память недолговечна, чаще всего коротка — об ушедших, погибших, исчезнувших… И в этом, выходит, тоже великая тайна, великий смысл, как в самой жизни, как в самой смерти… То есть: тайна замысла неведома роду человеческому во все времена — с сотворения мира; во всех поколениях, начиная с Адама и Евы, потому что и эта тайна, и этот смысл — да, Божественные!
Мне вспомнился мой мысленный разговор с Вячеславом Счастливовым по пути из Старой Рязани в Новые Гольцы, который, кстати, начался с того, что я иронично спросил, взят ли «любовный бастион»? Появилось ли новое имя в его «донжуанском списке»? Имя Лары Крыльцовой. Вячеслав с порога отверг мою подначку и отвечал серьезно: «Метафора о бастионе неуместна, потому что он решил соединить свою судьбу с Ларой». — «Вот как?!» — поразился я. — «Да, именно так, — подтвердил он и добавил: — Я надеюсь, что третий мой брак окажется счастливым». У меня не повернулся язык поиронизировать, обыгрывая его счастливую фамилию, но неожиданно для него, а, главное, для себя, я с вызовом бросил, что и сам готов испытать судьбу, — и почему бы не с Ларой?! Наш виртуальный диалог, конечно, тут же оборвался.
О чём же мне думалось теперь — в покинутости, в полном одиночестве, перед неизбежной разборкой с Ордыбьевым? Не поверите — о сущности бытия! Мне вдруг вспомнилось однажды услышанное признание, которое я осознал по-настоящему, пожалуй, только в эти минуты: глубокий старик, известный профессор, тончайший знаток средневековой Московии, на бриллиантовой годовщине своей свадьбы проникновенно заявил: «Мы так бесконечно нераздельны с моей вечной спутницей — вы догадываетесь, почему? Она — из моего ребра!»
Господи, как же это верно! — подумал я тогда и думал теперь. — Ведь всё извечно повторяется. Мы, оказывается, плохо помним библейские истины, в частности, ту, что Господь создал Еву из ребра Адама…
Выплыло из небытия и совсем давнее, изначальное в моей взрослой жизни, — то, что я встретил только одну «Еву», и была это моя первая возлюбленная… Только о ней с абсолютной уверенностью я бы и сейчас мог сказать: она — из моего ребра!
Господи, помню как тогда неотвязчиво снились вещие сны, будто кто-то свыше убеждал меня в истинности нашего единения. Сны о двух мальчиках, моих сыновьях, похожих на неё, мою «еву» — Наташу Жильцову… И сами мы с ней снились — в разные годы, до глубокой старости… Снились отчётливо ясно — на годы и годы вперёд… И я до сих пор не могу понять, отчего и зачем мы расстались?..
А опять встретились лишь четверть века спустя, когда уже ничего не исправишь… Может быть, для того, чтобы узнать… нет, чтобы понять, что ни у неё, ни у меня наши мальчики не родились… Вообще не дал Господь мальчиков… Хотя и она, и я уже были во вторых браках…
И мы с Наташей — Наташенькой! — встретившись годы и годы спустя, невысказанно скорбели… да, о том, что дарованные в вещих снах мальчики не родились, и уже никогда на белый свет не появятся…
А что же ныне? В моём добровольном отшельничестве в мещерской глубинке, куда не часто ночными автобусами наезжает жена?.. Мне порой казалось, особенно в последнее время… Вернее, я вдруг почувствовал в Ларе, Ларисе Григорьевне — надо же, какое созвучие в фамилиях: Жильцова… Крыльцова… — так вот, я почувствовал в ней будто бы своё «второе ребро». И кольнула мысль: первая любовь не состоялась, а остальные уходили, уходят… По крайней мере, гаснут… А всё равно надеешься на чудо… Оттого-то, вероятно, и возникла в мысленном диалоге с Вячеславом такая реальная ревность, боле того, решимость к соперничеству… Оттого-то, пожалуй, стали частенько случаться приступы необъяснимой тоски, боли душевной… Потому что, думалось мне, если жена не из твоего ребра, то не будет она нераздельной ни в делах, ни в жизненных устремлениях, а это значит: просто тянется совместная жизнь… У кого-то вполне удачная, а у кого — вовсе неудачная…
Что ж, наша жизнь по Божественной задумке — в воле нашей, но жаль, что мало кому из нас дано прозревать подсказки свыше, и ещё меньше кому исполнять их — покорно и с радостью.
Странно, конечно, что это печальное — нет, светлое! — воспоминание возникло в столь опасный, критический момент.
IIЯ тоскливо смотрел за Оку, в беспредельность Неба — пепельно-голубого, предвечернего; с усталым, не греющим солнцем, но ласковым, по старчески добрым… И такая отрешённость, такое безволие, угнетённость духа наполняли моё сознание, что я не услышал ни хлопка мерседесской дверцы, ни приближающихся шагов, вероятно, вкрадчиво мягких, умелых, и потому конвульсивно встрепенулся от окрика: «Рукы за голова!» Обомлел: передо мной стояли два чёрных человека. По всем понятиям чёрных — и по кавказскому обличью, и по униформе концерна.
Один из них был мне знаком: косматый, белозубый, с лениво-наглым поглядом, — охранник, которого я первым встретил в Новых Гольцах. На груди у него висел короткоствольный карабин «Узи». Подобный ему по мощи, по крепкости фигуры был и напарник, но не буйно-заросший, а тщательно выбритый, с тонкими вылизанными усиками, какие носил первый президент Ичкерии Джахар Дудаев.
Косматый бесшумно шагнул вплотную и тихо, но угрожающе произнёс: «Побэг — стрелат будэм». Он грубо обшарил и облапал меня. Из карманов куртки извлёк радиоприёмничек, документы, ключи от машины. Сопротивляться было бесполезно. «Жды!» — приказал он, ухмыльнувшись презрительно и надменно.
Во мне закипела яростная обида. В безрассудстве я сбросил с затылка руки. Тот метнул по-звериному злобный взгляд, но даже не пригрозил карабином, и я догадался, что команды расправиться со мной не было. К тому же, дудаевец вяло, но твёрдо произнёс: «Шамыл, нэлзя».
Я осмелел, взвинчено бросил:
— Скажите Ордыбьеву, что здесь не зона! Не гулаговский концлагерь! И на него найдётся управа!
Надо было видеть, как по-волчьи дико Шамиль оскалился на меня. Сколько бешенной ненависти исторгали, налившиеся кровью, глаза. Такие страшные глазища я уже видел чуть раньше у псов «баскервиллей».