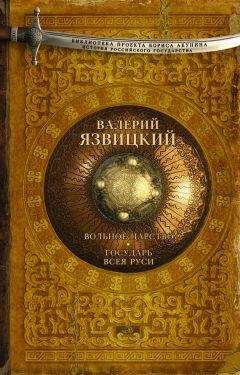Валерий Рогов - Претендент на царство
Пока бабуля была жива, всё светлое и правильное ясно и твёрдо присутствовало в их доме сельских интеллигенток — докторши и учительницы. Смерть бабули пришлась на подростковый возраст внука, возраст дурной и вздорный, и мягкосердечная, совсем не кремнёвая Дарья Фёдоровна почувствовала — полетел по жизни её сыночек без руля и ветрил: посыпались бесконечные проказы да сплошные неприятности.
Неукротимый и настырный, весь в бабку, да только без её принципов — праведных или просто житейских, что, в общем-то, не суть важно, завертелся её Сёмушка колесом, да всё не туда. Теперь его взгляды формировал, невзирая на протесты и слёзы матери, двоюродный братец, Женька Норкин, — зловредный лоботряс и вороватый потешник. За мешок картошки, умыкнутый из совхозного склада, — а кража уже была далеко не первой, — их осудили на три года и отправили в колонию несовершеннолетних преступников в Суздаль.
Но Сёмка пробыл в камере-кельи бывшего Ефимьевского монастыря всего четыре месяца: ленинградская родня и в первую очередь его дядя, материн родной брат, Дмитрий Фёдорович Чесенков, заслуженный геолог, орденоносец — и за геройство на войне, и за разведку недр, — сумели вытащить его из уголовной среды. Однако отпечаток колонии, словно родимое пятно, оказался неистребимым. Не помогло и то, что дядя взял его к себе в Питер, определил в школу. Психология Семёна как-то затвердела на тюремной фене и понятиях, и в своей подростковой среде он воспринимался парнем порченным, — нечестным, подловатым и даже дурным. Особенно за то, что постоянно стремился потешаться над теми, кто слабее, незащищённее, — чтобы больше унизить, придавить. Эта злая страстишка — понасмешничать над себе подобными, причём без меры, а порой и жестоко, отчуждала от него одноклассников. Его сторонились, и дружбу с ним не водили.
В общем, со сверстниками он оставался блатным, враждебно-задиристым и подло-насмешливым, чем отличались в те годы все, прошедшие зону и лагерный произвол. Хотя пути с братаном Норкиным у него разошлись — тот напрочь прикипел к уголовщине, — однако и в Питере нашёлся ему подобный, тоже двоюродный братец, но уже не по отцовской, а по материнской линии, Вовка Наумов, сын одной из сестёр Чесенковых, из трёх его двоюродных тёток, с которым они в начале хрущёвской оттепели-перестройки, когда до одури разоблачали культ личности Сталина и жили «в мире и дружбе» с Америкой, втайне фарцевали на Дворцовой площади и занимались вымогательством в молодёжной среде.
После семилетки, прожив в Питере полтора года, Сёмка Силкин вернулся в Гольцы к матери, легко после ленинградской школы поступил в Индустриальный техникум в Городце Мещерском, учился, правда, там шаляй-валяй, не по способностям, и, видимо, поэтому — высокомерный, заносчивый, раздражавший не только своих сокурсников, среди которых постоянно пытался брать верх, но и педагогов, над коими любил поизмываться, — в общем, с последнего, пятого, курса попал в армию, — в отместку, для перевоспитания, не защитив диплома, так и оставшись на всю дальнейшую жизнь с незаконченным среднетехническим образованием.
В армии, во солдатах, где к его питерскому апломбу добавился и студенческий, он относился к рабоче-крестьянской массе с презрением и насмешливостью, за что не раз получал по мордасам. Его «избранность» не нашла и должного понимания среди сержантского и офицерского состава. Для командиров он был такой же как все, а, пожалуй, даже и хуже, ибо чего-то там о себе мнил. Поэтому в тяжёлых работах и унизительных нарядах ему не отказывали.
Из армии Силкин вернулся с кипящей к ней ненавистью и с убеждением, что сокращать её кадровый состав, надобно не на миллион, как желал Никита-кукурузник, а подчистую. Между прочим, тогда же он воспылал жгучей злобой и к собственной стране, где, оказывается, нет ни свобод, ни демократии, ни благополучия, ни всякого иного прочего, о чём уже в открытую трубили народившиеся диссиденты, не считая, конечно, множественные зарубежные радиоголоса.
Женился Семён Силкин на татарке, единственно для того, чтобы уехать от матери, не гнить в Гольцах, а раскрепоститься в Городце Мещерском. Связав свою судьбу с Розой Кадыровой, он совсем не думал о её национальности — тогда ведь постоянно и неотступно всем внушалась советская безнациональность; к тому же, внешне Роза никак не отличалась от большинства других девушек, может быть, только своим твёрдым неприятием его домогательств, что, кстати, ему очень понравилось.
Миф о «едином советском народе», хотя провозглашался публично и навязчиво, был очень далёк от жизненных реалий. Когда Роза объявила, что хочет выйти замуж за русского, за Сёму Силкина, которого любит, в её спокойной, уютной, укоренённой в родственных связях, татарской семье случилось, можно сказать, землетрясение. Возможно, именно тогда она впервые осознала всю изощрённую ложь идеологических мифотворцев, впрочем, как и Семён. Верность национальным преданиям в татарской диаспоре незримо, но строго охранялась, и только один человек мог дать добро на её брак с возлюбленным — её отец, Султан Ахметович Кадыров, соддат войны, вступивший в ВКП (б) на фронте. Он убеждённо высказал своё твёрдое согласие, но опять же только после того, как в доверительной, долгой беседе с Семёном объяснил ему, куда он идёт примаком и какие законы неукоснительно соблюдаются среди татар.
Оказавшись в примаках, в семье, где сурово главенствовал Султан Ахметович Кадыров, вечный зам дюжины начальников Горхоза, как правило, русских, по крайней мере, по паспорту, Силкин впервые ощутил деспотическую мужскую силу и сразу ей покорился. Питерский дядя Дима, нет, тот не был деспотом, такой же разглагольствующий интеллигент, как и мать, а вот крутой Султан Ахметович ему по-настоящему нравился, и он без колебаний признал в нём своего назывного отца.
Всю длинную эпоху брежневского застоя, или развитого социализма, под руководством тестя-отца молодой зять-сын благопристойно процветал на хозяйственном поприще, наживая законно, а порой и незаконно, как многие тогда, солидный домашний достаток, и в конце концов дослужился до почётной должности управляющего делами райкома КПСС, где попал под строгое покровительство очень влиятельного и перспективного секретаря, — да, Ордыбьева.
Истинное возвышение Силкина, а заодно и освобождение от гнёта тоталитаризма, о чём он впоследствии любил вспоминать с насмешкой и двусмысленностью, произошло на излёте горбачёвской перестройки, а точнее в самые разрушительные годы запылавшей либеральной революции — 1989-й, 1990-й, 1991-й, ну, а дальше начался ельцинский беспредел, где Силкин уже был кум-королём… Кстати, именно в эти годы умер стальной партиец Султан Ахметович Кадыров, его грозный тесть, и сразу же за ним — строгая тёща. И Семён Иванович Силкин обрёл не только полную личную свободу, но и первоначальный, достаточно крупный капитал, который он ещё не знал на что тратить. Попервоначалу купил подержанную «ауди» — машину давнего вожделения, а также трёхкомнатную квартиру в Рязани, если придётся скрываться за неблаговидные проступки и форменный грабёж, да, от разоблачений и возможного судебного преследования. Там же сразу поселилась жена, так как две дочери, Люба и Зина, обучались в рязанских вузах, а младшая, Лена, возжелала учиться в английской школе, то есть спецшколе, где ряд предметов преподавался на английском языке. Так на проспекте Новосёлов в областном центре возник новый силкинский очаг. Но сам он оставался в Городце Мещерском, где безоглядно вёл сомнительные дела, а главное, где неожиданно получил неограниченную свободу, а у него к тому времени, как говорится, проснулся бес под ребром, и он с той же безоглядностью бросился в любовные приключения. И понесло, и закрутило…
Таким образом, все присущие Силкину мерзости с подросткового воровского прошлого расцвели в либеральную вакханалию гигантскими, ядовитыми мухоморами, а к концу рыночного десятилетия — эпохи нестроения, разрухи, беспредела, обогатившись безмерно, возомнив о себе чёрт знает что, Семён Иванович Силкин и в самом деле превратился в законченного мерзавца.
Нет, конечно, не в прирождённого — и здесь Вячеслав Счастливов прав, — а именно в законченного, хотя ведь по сути разницы никакой! А наши со Славой громкие споры, выходит, ничего не стоили: всё — суета и тлен, а точнее, суесловие, которое лучше бы избегать в жизни, — и как можно чаще!
IVСилкин у заднего окна «мерседеса», стянув свой двухкозырьковой кепи и обнажив лысину, бурно жестикулировал, видимо, в пристрастии и гневе излагая Ордыбьеву перипетии случившегося. Несомненно, поносил меня самыми последними словами, внушая грозному Арсанычу, что прикатил я сюда с компроматом, чтобы шантажировать. Безусловно, пугал: мол, вот-вот объявятся мои вооружённые дружки, вызванные по радиопередатчику, набалтывал и всякую другую белиберду. И хотя всё это было бесконечно далеко от истины, как от окских берегов до луны, но разве докажешь обратное, разве поверят новые господа в то, что завернул я сюда больше из любопытства, из убеждённого неприятия нынешней эпохи, чем ради какой-то там с ними разборки.