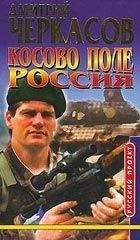Вячеслав Рыбаков - На мохнатой спине
Я Надю больше не видел после катка. И не то чтобы мы сознательно избегали друг друга; при той жизни, какой в те годы приходилось жить, эти буржуйские сопли были избыточными, как шелковые бантики на солдатском сапоге.
Некогда, и все.
За окном догорал морозный мартовский вечер — прозрачный, звонкий и напоённый светом, как сосулька. Когда-то такие вечера сами по себе были словно обещание. Я сидел в кресле перед окном, на коленях у меня лежала корешком вверх раскрытая книга, и это длилось, верно, уже не меньше часа.
Там, где в розовой дымке тонуло слепящее пятно солнца, за лесами, за долами, Гитлер доедал Чехию. А цивилизованный мир стыдливо отводил глаза и на очередные ноты нашего Литвинова, справедливые, точные, возмущенные, почти пророческие, внимания обращал не более чем на жужжание надоевшей мухи. Тут люди едят, а она, понимаешь, опять за свое… Не твоя тарелка! Кыш!
И даже мне уже было плевать. Устал.
А может, и вовсе надорвался.
Они в Рузе… С компанией, конечно, но ведь всегда можно найти номер на двоих… Они там… Что?
Уже?
Еще?
В дверь моего кабинета стукнул кулак.
— Ау? — сказал я, поворачиваясь вместе с креслом.
Дверь приоткрылась, и, не пересекая порога, внутрь просунулся тесть.
Он обрюзг и исхудал, втянувшиеся щеки и костлявые скулы были покрыты пегой седой щетиной. Иногда меня ужас брал: и это наш комиссар, жестокий и прекрасный созидатель счастливого завтра? Где твоя кожанка, папа Гриша? Где твой пыльный шлем?
— Думаешь? — спросил он.
— Есть немного, — ответил я.
— Это правильно, — сказал он. — Есть о чем подумать.
— Заходи.
Он помялся.
— Давай лучше ко мне, — сказал он.
Я помедлил, потом поднялся. Я сразу понял, что это значит.
И не ошибся.
— Садись, — сказал тесть. — Выпьешь?
Я сел и сказал:
— Куда ж деваться.
— Не хочешь — не дам. Самому больше достанется.
— Пригублю, а там видно будет, — дипломатично ответил я.
Если бы вся дипломатия сводилась к таким проблемам!
Он вынул из серванта вторую рюмку, вернулся к столику и стремительно, почти не потеряв кавалерийской сноровки, расплескал водку на двоих.
Хряпнули, конечно, и крякнули хором. По пищеводу прокатило, в желудке зажглось. Закусили, аккуратно взяв с блюдца по мышиной дольке сыра.
— Не так часто бывает, что мы с тобой вдвоем остаемся, — сказал тесть, прожевав. Кашлянул. — А поговорить пора.
— Что стряслось, папа Гриша?
Он помедлил, языком очищая зубы после закуси. Сначала верхние, потом, видно было по блуждающему вздутию на щеке — боковые.
— Я тебя понимаю, — сказал он. — Ты мужик, и я мужик. Молодой был — ни одной юбки не пропускал. На перине так на перине, в тачанке так в тачанке… И если б Марылька мне не дочь, слова бы тебе не сказал. Мужик на то и создан, чтобы девки не скучали. Дают — бери. Тем более годы твои такие, что… Седина в бороду — бес в ребро. Как не потешиться напоследок?
— Ты о чем, папа Гриша? — безмятежно спросил я.
— Если б я знал! — в сердцах сказал он.
— Так тогда какого…
— Мне одно ведомо. Тебя в семье почти что и не застанешь никогда. А Марылька, хоть баба и работящая, но все ж таки ночует в доме. И вот я вижу в последние месяцы, что она не в себе. То гимнастикой какой-то мается… Встанет ни свет ни заря — и ну задом крутить да ногами лежа дрыгать. Тебе-то невдомек, при тебе она ничего такого себе не позволяет, но когда ты в отъезде… Страшно смотреть, как женщина себя изводит. То не жрет ничего, то какие-то травки заваривает… И каждые два-три дня перед трельяжем крутится. И еще в ванной — нагишом, наверное. Я так понимаю, проверяет, не помолодела ли… А потом плачет в подушку.
У меня сжалось горло. Вот оно как…
Девочке-то моей тоже, выходит, несладко.
Тесть умолк, пытливо сверля меня взглядом. Будто хотел досверлить до мозга.
И взять пробы мыслей.
— Так разве ж это плохо? — спросил я.
— Было бы не плохо, если б она просто дурочку валяла с этими всеми упражнениями да отварами. У каждого — своя блажь перед старостью. Но коли плачет… Значит, она себя сравнивать с кем-то начала. Я так понимаю, ты где-то завел молоденькую. А Марылька ж гордая. В глаза тебе слова сказать не может, но пытается остаться… снова стать… И сама видит, что чудес не бывает.
— Выдумала она себе все, — сказал я, сам не понимая, сколько в моих словах правды, а сколько — кривды.
Факт, что я никого не завел. Ниже пояса не завел, да. Но…
Иной каждую неделю на сторону бегает, а думает об этом и мучается меньше, чем думаю и мучаюсь на ровном месте я. Может, для того и бегают? Чтобы не думать? Если и впрямь изменить — измена не так заметна? Вроде как в сортир сходил, облегчился — и опять гоп-ля-ля, свеж и бодр. Сыт и спокоен. А вот если постеснялся сбегать до ветру вовремя — нет потом муки горше…
— Ну, не знаю, — протянул тесть с сомнением. — Я же вижу, что у вас в последнее время нелады. И стонать вы у меня за стенкой уж которую неделю перестали… И вообще — смотрите дружка на дружку как чужие. Слова говорите те же, а голоса мертвые.
— Сейчас я тебе одну вещь скажу, — хмелея, решился я. — Только ты еще налей сначала.
Он не заставил себя упрашивать.
Внутри опять полыхнуло, подбросили черти уголька под сковородку. Кровь побежала бодрей. Стало мерещиться, что жизнь прекрасна. Но я давно уже уяснил: можно вернуться на то самое место, где был когда-то счастлив, и даже сесть так же, как тогда, и выпить хоть литр. Ну, где тут мое несбывшееся, ау? Но в прежнего себя и после литра не вернешься.
— Я ж сколько раз пытался по-хорошему, — признался я. — Понимаешь… Ну не отвечает! Чем я ласковей — тем ей смешней. Иронизирует только. Хоть бы сказала, что ей против шерсти-то — тогда бы, может, слово за слово и размотали. Но не могу добиться. Это уж, знаешь, папа Гриша, не тебе, а мне впору думать про измены. Стенкой какой-то закрылась, и все.
Он помолчал, крутя рюмку в руках. Потом взял было двумя пальцами дольку сыра, подержал и опять отложил.
— Стареет девка и переживает, что стареет… Может, ей кажется, что ты к ней теперь только из жалости?
— Да ведь в человеке столько намешано, что и не разберешь. Может, и за жалость иногда сердце зацепит, как рыбу за губу, — а когда дернешь, сердце-то все целиком ловится. Мне ее и впрямь жалко бывает — хоть сам плачь. Так мне ее всю жизнь жалко было, еще с тех времен, когда она, девчонка, в шинели и сапогах степную грязь месила…
— Вот этого не надо, — отрезал он. — Жалость — плохое чувство, гадкое. Ваш же Достоевский, помнится, писал, что жалость унижает.
— Не читал, но если так, то это он, наверное, в казино продулся в пух и прах и весь свет возненавидел, вот и ляпнул. Есть простая русская песня, папа Гриша: жалею — значит люблю. В ней знания человека в сто раз больше, чем во всем Достоевском. Слушай, жалость и сострадание — синонимы? А жалость и сочувствие? А какая может быть любовь без со-страдания и со-чувствия? Только та, о какой ты сначала говорил: на перине так на перине, в тачанке так в тачанке…
Его взгляд мечтательно помутнел. Потом, встряхнувшись, он разлил еще по одной. Махнули и эту. Голова поплыла.
— Эх, да я понимаю тебя, — слегка осипнув, начал тесть по кругу. — Последние годочки идут… Даже завидую, честное слово. Будет-то еще хуже, будет совсем кирдык.
Он сказал это так, будто ждал и дождаться не мог, когда моим способностям настанет кирдык.
— Нет, ты не увиливай, — во хмелю я тоже умел быть настырным. — Скажи сам — если бы тебя кто-то вот сейчас пусть хоть из жалости полюбил? Ты бы в ответ расстрелял, что ли, перед строем? За унижение?
— Расстрелял не расстрелял, но задницу веником надрал бы.
— Экий ты европеец, однако. Садомазо…
— Мы всегда были форпостом европейской цивилизации на востоке, — вдруг сообщил он. Тоже, видно, захмелел. Но я не дал себя сбить.
— Нет, ты скажи. Вот сейчас пришла бы к тебе молодая, красивая и прошептала застенчиво: я все понимаю и влюбиться в вас на всю жизнь, конечно, не могу, но вы замечательный человек, герой Гражданской, и лагеря избежали лишь каким-то чудом, и дочку хорошую воспитали, и вообще вы столько вынесли, столько пережили, столько дел переделали… И вот я пришла, и делайте со мной, что вам заблагорассудится, а я только счастлива буду, что бескорыстно подарила радость хорошему человеку на склоне его лет…
У комиссара отвисла блестящая от слюны губа.
А я осекся, потому что понял: я не про него говорю, а про себя. Не ему мечту подсовываю для примера, а про свою рассказываю.
А он точно так же малость раньше открылся — форпост он, и точка…
Все-таки о чем бы мы ни говорили: о философии, о психологии, о политике, о полетах в стратосферу, о повышении трудовых показателей — мы только о собственной душе говорим. Пытаемся про нее миру рассказать под любым предлогом, любым соусом и даже сами этого не сознаем. И никак иначе. Сквозь любую тему душа просвечивает. Из одной по пояс высовывается, точно через окошко вовсе сбежать решила, из другой — только глазком высверкивает, как мышка из норки… Но из любой.