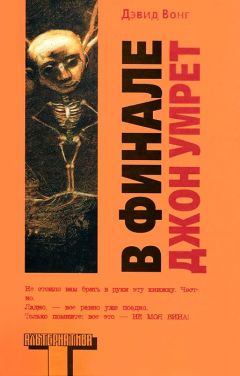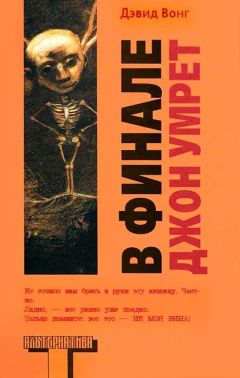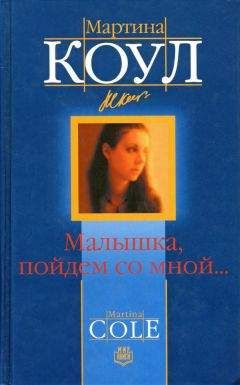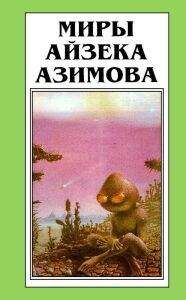Джон Дэвид Калифорния - Вечером во ржи: 60 лет спустя
Хотя финал и не составлял для меня тайны, в глубине души я все-таки надеялся на что-то другое. В глубине души я надеялся, что в прошлом кое-что изменилось.
Когда мы выходим из зала, на улице уже смеркается. Тротуары, как я вижу, мокрые от дождя. В лужах отражается неоновая реклама. Зрелище фантастическое: мы идем по тротуару, а огни скачут за нами по пятам. Строго говоря, это и есть фантазия, напоминаю я себе. У меня опять начались фантазии. Иначе – откуда бы в моей руке взяться этой ладошке? Лицо у меня горит, но ладошка еще горячее. Как будто я несу тлеющий уголек. Это продолжается и в такси. Мы смотрим в окно, каждый в свою сторону, и не произносим ни слова. Но перед входом в вестибюль заблаговременно отстраняемся.
Ночь – та же, что и прежде. В кресле, кутаясь в плед, сидит Чарли, а я лежу на спине в кровати. Сердце начинает бешено колотиться; сна ни в одном глазу.
16
Просыпаюсь – в кресле никого.
У кровати на полу оставлена записка, нацарапанная на вырванной книжной странице. Записка оканчивается словами: «Ждите меня там в девять».
Переворачиваю листок и вижу, что это не простая страница из какой-то книги, а последняя. То есть из какой конкретно книги – сказать не могу, текст мне незнаком, но есть в нем что-то финальное. Сказано – как отрезано, потому я так и решил.
Если не считать, что я спустился к завтраку, весь день провожу в четырех стенах. Обедать не иду, шатаюсь по своему номеру, от письменного стола к окну и обратно. От этого день получается длинным и в то же время коротким. В полдень ему конца-краю не видно, а когда на западе начинает кровоточить небо, мне уже кажется, что дня этого и вовсе не было. Провожаю взглядом солнце, смотрю, как оно обливается кровью и закипает. Когда округлые контуры бесследно исчезают, я возвращаюсь к столу и сажусь в кресло. Заношу перо над бумагой и раздумываю, о чем писать. В уме сто раз проговаривал, а на бумагу почему-то не ложится. В чем трудность – непонятно. Мы ведь не чужие. На миг закрываю глаза, чтобы оглянуться назад. Дорогая… Дорогая моя… Понимаю, столько лет прошло… Часто вспоминаю… Люблю тебя… Бросаю ручку и отталкиваю блокнот в сторону.
Рано еще, времени у меня полно, и тем не менее я встаю, беру шляпу и выхожу. Доезжаю до Двадцать четвертой улицы, а дальше иду на своих двоих до угла Сент-Маркс и Астор-плейс. Там прямо на тротуаре, прислонясь спиной к ограде, сидит какой-то субъект. Перед ним расстелено одеяло, на котором громоздятся стопки книг и старых виниловых пластинок, а под локтем у него расставлены в ряд картины. Бродяга, не иначе, потому как вид у него самый что ни на есть зачуханный. С ума сойти: бомж при искусстве. Он и сейчас что-то чиркает; наклоняюсь вбок и заглядываю в блокнот, пристроенный у него на колене. Вижу цветок вверх ногами. Кстати, на всех картинах тоже цветы, но этот особенный: у него чашечка похожа на сверкающее солнце. Этот субъект отрывается от своего блокнота, улыбается мне и приветствует молчаливым кивком. Я точно так же киваю в ответ – ни дать ни взять, старинные приятели. Это безмолвное признание пройденного пути; мысли о смерти как-то нас сближают.
Так или иначе, я уже на месте, остается только ждать. Подхожу на шаг ближе и разглядываю его товар. Пластинки все не новые. Большие виниловые диски на сорок пять оборотов, одни названия чего стоят, «Иисус Христос – суперзвезда», «Танцующая королева» и прочая классика, а книги – книги буквально обо всем на свете, от истории до садоводства; ну и картины эти, само собой. Мое внимание сразу привлекает та, что слева, с самого края. Изображение незатейливое, но чем-то меня цепляет. Черно-белое, тоже вроде как солнечный цветок, только с неимоверно длинными вьющимися стеблями, которые расползлись по всей поверхности, как на иллюстрации к сказке про Джека и бобовый стебель. Нарисовано, если не ошибаюсь, на картоне и оправлено в раму из разномастных дощечек, вроде как выловленных на лесосплаве. Я еще и рта раскрыть не успел, а он сообщает: двадцать пять долларов. Голос у него, вопреки ожиданиям, теплый, мягкий, на улицах такой нечасто услышишь. Оглядываюсь по сторонам, убеждаюсь, что она еще не пришла, вытаскиваю из кармана тридцать баксов и протягиваю торговцу. Он дает мне пятерку сдачи, но я отрицательно качаю головой и улыбаюсь.
Мне ее даже повесить негде, говорю я, но, видимо, себе самому.
Отхожу со своей картиной на пару шагов и опускаюсь рядом с ним на тротуар, спиной к ограде.
Как жизнь? – спрашивает он, и я поворачиваюсь к нему лицом.
Его глубокий, бархатистый голос звучит негромко, ближе к шепоту, но это как раз меня и завораживает. Люди в большинстве своем, когда присмотришься повнимательнее, – это просто тени, а если не присматриваться, можно их и вовсе не заметить. А он смотрит на меня своими усталыми, чуть раскосыми глазами, точь-в-точь как смотрел Фрок. Старина Фрок.
Я – Джордж, говорит торговец; рука у него горяченная.
Джордж сидит на стопке букинистических книг, а на колене у него по-прежнему балансирует видавший виды блокнот для эскизов. Рука его после нашего краткого рукопожатия возвращается восвояси тем же путем. Скользит по воздуху и ныряет в карман. Я приваливаюсь спиной к ограде и вглядываюсь в уличные сумерки. Между нами устанавливается дружеское молчание. Оно нисколько не тяготит.
У тебя когда-нибудь собака была, Джордж? – спрашиваю.
Он даже отрывается от блокнота и вначале не может взять в толк, к чему я клоню.
Собака?
Ну да, говорю. Была у тебя собака?
Его рука бегает по листу, раз за разом повторяя линию за линией, и вскоре они оживают, а цветок вспыхивает.
Я, говорит, родом из Луизианы. Там собак – как грязи.
Подваливает какой-то амбал: весь заросший, ручищи в татуировках. Тянется к Джорджу, и они стукаются сжатыми кулаками. О чем-то переговариваются, но мне не слышно, а после его ухода в руке у Джорджа, как у фокусника, оказываются две сигареты и пригоршня мелочи. Одну сигарету он протягивает мне, но я отказываюсь – и опять за свое.
Да нет, я не о том – у тебя своя собственная собака была когда-нибудь?
С сигаретой в зубах Джордж роется в кармане и вытаскивает зажигалку.
Нет, говорит, своей собственной, кажись, не было, и закуривает.
После первой затяжки выпускает дым и замечает:
Собака – это не собственность.
Пока Джордж добавляет штрих за штрихом к своему цветку, я разглядываю внушительное каменное здание на противоположной стороне улицы.
У меня там двое учатся, сообщает Джордж, не поднимая головы.
Художественный колледж «Купер Юнион», продолжает он, тысяча девятьсот десятого года постройки, в нем установлен первый в мире сферический лифт.
Вселенная на миг застывает; я просто ошарашен. Сегодня, на финишной прямой, жизнь вправила мне мозги. Наверное, есть вещи, которые можно постичь, только сидя на тротуаре.
Кручу головой, вглядываюсь в каждое притормозившее такси, в каждого пешехода на другой стороне улицы – высматриваю Чарли, но все напрасно. Выжидаю, пока Джордж сделает последний штрих, чтобы рука перестала сновать по бумаге, и тогда говорю:
Я не тот, за кого ты меня принимаешь.
На самом деле такие реплики я позволяю себе только в доверительной беседе со старинными приятелями; вообще говоря, душу выворачивать не люблю. Но если уж такое случается, с незнакомыми мне даже проще. Джордж словно язык проглотил, даже головы не поднимает. Похоже, обдумывает. Какое-то время мы оба молчим, а потом раздается его бархатистый голос, но вещает он совсем не то, что я ожидал услышать.
Читал я когда-то такой стих: «Живи – и жить давай другим, пойми – и будешь понят».
Тут он выдерживает короткую паузу.
Да, заканчивает он, лично я по такому принципу живу.
У меня нет уверенности, что он правильно истолковал мои слова; хочется поведать ему, что со мной приключилось. Меня так и тянет хоть с кем-нибудь поделиться, но я только повторяю в уме эти строчки. Живи – и жить давай другим, пойми – и будешь понят.
Из одного подъезда «Купер Юниона» выходят два немолодых человека и направляются в нашу сторону. У одного под мышкой фолиант, который он передает Джорджу.
Прочел. Благодарю вас, говорит он, а Джордж только кивает и кладет фолиант на тротуар, где лежат книги на продажу.
Эти двое удаляются в сторону станции метро, и тогда Джордж отвечает на мой вопрос, хотя я даже задать его не успел.
По-моему, это так надо понимать: коли ты что-то любишь, полюбят и тебя, говорит Джордж.
Мне требуется это переварить, и я смотрю на него искоса. Вернее, смотрю я на него обычным порядком и вижу, что человек сидит на тротуаре не потому, что ему больше делать нечего, а исключительно потому, что ему так нравится.
Встаю – боль в коленях просто адская.
Мне пора, говорю ему, хотя Чарли так и не появилась.
Купленную картину засовываю под мышку и протягиваю руку Джорджу. Его тепло растекается по моим жилам, от пальцев, через предплечье и в самое сердце.