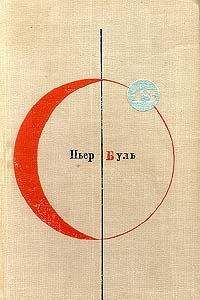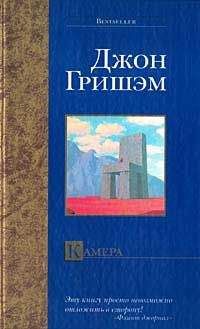Сергей Шхиян - Турецкий ятаган
— Ладно, еще не вечер, — пообещал я.
Пока за мной не пришли, я обследовал камеру. Нужно было найти хоть какое-нибудь оружие. На первый взгляд ничего подходящего для самозащиты здесь не оказалось. И вообще помещение было маленькое, личных вещей у Марфы Никитичны практически не было, только деревянный гребень и посуда: жестяные чашка, кружка и оловянная ложка. Вот она-то меня и заинтересовала.
— Можно, я возьму вашу ложку? — спросил я.
— Зачем она вам?
— Нож из нее сделаю.
— А как? — заинтересовалась она.
— Вот так, — ответил я, отломал черпак и начал затачивать мягкий металл о каменную стену.
— Надо же! — удивилась она, разглядывая примитивную заточку. — Ей, что, можно человека поранить?
— Можно не только ранить, но и убить.
Я засунул заточку в рукав. Даже такое оружие придало мне уверенности в себе.
— Ох, как бы чего не вышло, — покачала головой Марфа Никитична. — Вы, сударь, лучше миром, поговорите, покайтесь, в ноги падите, может Трофим Кузьмич и простит.
— За что каяться и прощение просить? — не понял я. — Я никого не оскорблял.
— Все одно, покайтесь. Зачем я вам только ложку свою дала! Вам же хуже будет.
— Хорошо, может быть вы и правы, попрошу у вашего Маралова прощения, ручку поцелую, может быть и вправду простит, — вполне серьезно сказал я опасаясь, чтобы из благих побуждений она меня не сдала.
— Вот и хорошо, Трофим Кузьмич, он хоть и горячий, но отходчивый. Если поплакать, да покаяться, непременно простит. Вы, сударь, главное, не гордитесь, они этого очень не любят. Мой Василий Иванович так и говорит: «Не гордись и место свое знай, тебе и воздастся».
Я хотел спросить, чем ей воздалось от такой униженной позиции, но промолчал. Да и разговаривать было уже некогда, опять послышались шаги, лязгнул засов, и заскрипели дверные петли. Я бросился на свою подстилку и принял прежнюю позу. Вошел прежний тюремщик, я его узнал по голосу, и с ним еще какой-то мужчина лакейского типа.
— Ну, как он, очухался? — спросил тюремщик соседку.
— Да, уже даже разговаривал, — ответила она дрожащим голосом.
— Это хорошо, — похвалил он. — Эй, ты, как там тебя, вставай!
Я с трудом открыл глаза и спросил:
— Где я? Вы кто?
— Кто нужно, — ответил тюремщик и ударил меня сапогом по ребрам.
Я от неожиданности вскрикнул и скорчился от боли. Удар оказался очень болезненный. Однако я никак на него не ответил, только испуганно спросил:
— Вы чего деретесь, что я вам плохого сделал?
— Вставай, скотина, — приказал тюремщик и опять собрался меня ударить ногой.
Я сделал вид, что испугался, и начал медленно подниматься, но меня ударил с другой стороны второй «гость», и я опять свалился на пол. Они дружно захохотали, видимо, радуясь хорошей шутке. Я мог бы вполне справится с этими двумя уродами, но, не зная, кто и, главное, сколько противников за ними стоит, погодил демонстрировать свои возможности. И, кажется, поступил правильно — больше меня не били.
— Ладно, вставай, — велел второй малый, с хитрой лакейской мордой. — Будешь слушаться, никто тебя не тронет.
Я с трудом поднялся на ноги и стоял, покачиваясь от слабости.
— Сам сможешь идти? — спросил тюремщик.
Я заискивающе улыбнулся, только что не поклонился:
— Смогу, почему не смочь. А куда идти, ваши сиятельства?
«Сиятельства» от удовольствия осклабились и даже проявили некоторое сочувствие. Лакействующий тип ответил почти по-человечески:
— Здесь недалеко, лучше иди своими ногами, а то… — он не договорил, что будет, если я сам не смогу идти, а я не стал уточнять. — Знаешь, что такое экзекуция?
— Нет, а что это такое?
— Скоро поймешь, — засмеялся тюремщик.
Шатаясь, еле передвигая ноги, я пошел к выходу Они, не торопясь, коротко перекидываясь междометиями, последовали за мной. Шли мы сначала по подвальному коридору, потом начали подниматься по лестнице. Когда нужно было повернуть, мне приказывали куда. Судя по поведению конвоиров, никакой радости от предстоящей «экзекуции» они не ждали, просто выполняли свою работу. Во всяком случае, говорили о самом обыденном, какие щи вкуснее, кислые или из свежей капусты, и кому из них какие больше нравятся.
Я, продолжая спотыкаться на ровном месте, добрел до высокой двустворчатой двери.
— Стой пока здесь, — приказал второй конвоир и, оставив меня на попечение тюремщика, скрылся за дверями.
— Сейчас день или ночь? — спросил я.
— Вечер, — ответил он. — Ты знаешь, куда попал?
— Нет, откуда мне знать.
— Марфа Посадница ничего тебе не сказала?
— Какая еще Марфа? — я сделал вид, что не понял, о ком он говорит.
— Ну, та женщина, что была с тобой в комнате.
— Нет, она со мной не разговаривала.
— Это хорошо.
Что в этом хорошего, я не спросил, продолжал изображать сломленного жизнью и обстоятельствами мещанина. Мы молча простояли пять минут, наконец вернулся лакей, и сказал, обменявшись многозначительным взглядом с тюремщиком:
— Пошли, ждут.
Я вошел в приоткрытую створку двери. За ней оказалась просторная зала, почти без мебели. Только посередине стояло странное устройство — покатая скамья с отверстиями для привязывания рук и ног. Если бы я не слышал разговор о порке плетьми, никогда бы не догадался, для чего это сооружение предназначено. Меня подтолкнули в спину, принудив выйти на середину зала.
— Ложись, — приказал лакей.
— Куда? — сделал вид, что не понял я.
— На скамейку ложись, — повторил он.
— Зачем? — спросил я, не трогаясь с места.
— Ты, малый, не спорь, — вмешался в разговор тюремщик, — слушай, что говорят и исполняй, а то тебе же хуже будет.
Ложиться и дать себя связать я не собирался и, не отвечая, пожал плечами. Приближался «момент истины». Правда, пока ничего опасного для меня не было, всё было впереди.
— Ну, ты, что кобенишься? — почти ласково спросил лакей и подтолкнул меня к скамье. — Тебе говорят, ложись, значит — ложись.
— Не лягу, — коротко ответил я, поворачиваясь к ним. Причем сделал это, как оказалось, вовремя, тюремщик уже замахнулся кулаком, чтобы ударить меня по голове. Я отклонился и встретил его крюком в солнечное сплетение. Он хрюкнул и, лепеча ругательства, согнулся пополам. Тотчас на меня бросился второй. Он был мельче и субтильнее товарища, и быстро сообразив, чем ему грозит столкновение, резво отскочил в сторону.
— Ну, ты, орясина! — разом потеряв вальяжную самоуверенность, воскликнул он, — Ты, того, не балуй! Лягай, где велели, и смотри у меня!
Я сделал движение в его сторону, и он испуганно отпрыгнул к стене.
— Сейчас придет его превосходительство, тебе мало не покажется! Лучше покорись, а то до смерти запорют!
Тюремщик начал приходить в себя. Он, матерно ругаясь, пошел на меня, по-медвежьи сгорбившись, широко расставив локти и сжав кулаки. Я ждал его на месте, имея в поле зрения и стоящего за спиной немного осмелевшего лакея.
— Убью, падаль! — скрипел, широко разевая рот тюремщик. — До смерти забью!
Я не двигался, спокойно ждал, когда он подойдет ближе. Однако герой лезть на кулак не спешил, он остановился в полутора шагах и смотрел мне в глаза, ожидая увидеть в них страх и растерянность. Однако чего там не было, того не было. Этих клоунов я не боялся.
Тюремщик немного смешался, мой переход от сломленности к агрессии был слишком быстрым, и он не знал, что делать.
— Но, ты! — на всякий случай припугнул он меня и погрозил кулаком. — Смотри у меня!
Я сделал резкое движение в его сторону, и он отскочил, воскликнув:
— Ты не балуй, хуже будет!
На этом активные действия с обеих сторон прекратились. Я по-прежнему стоял в середине зала возле пыточной скамьи, конвойные сошлись у дальней стены и тихо, чтобы я ни слышал, совещались. Догадаться о чем идет разговор, было несложно. Наконец что-то решив, они оба повернулись ко мне, и лакей крикнул:
— Эй, будешь слушаться или как?
— Как, — ответил я и присел на покатую скамью.
— Я пойду к его превосходительству! — пригрозил он. — Они тебя не похвалят!
— Иди с богом и передавай ему от меня привет, — ответил я, присматриваясь, как можно использовать пыточный станок для обороны.
— Так я иду! — опять пригрозил тюремщик.
— Иди, — разрешил я.
Скамья была массивная, сделана из дуба и стояла на четырех толстых ножках. Это было уже хоть что-то. Я ее поднял и под углом сильно ударил об пол. Раздался треск, но ножки выдержали.
— Ты что делаешь! — в голос взвыли оба противника. — Да тебе за это знаешь, что будет! Смотри, потом пожалеешь!
Меня всегда умиляла болтливая хвастливость явного бессилия. Можно было, конечно, вступить с ними в пререкания по поводу сохранности здешнего «оборудования», однако охоты попусту разговаривать не было. Я опять поднял скамью и изо всех сил ударил под углом об пол. Две ее длинные ножки с громким треском обломились в пазах.