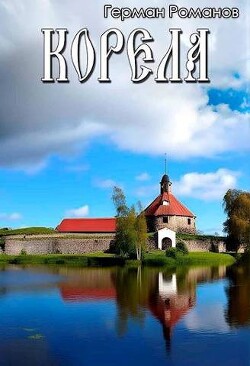Скопа Московская (СИ) - Сапожников Борис Владимирович
— Выкрутил ты ему руки, генерал, — покачал головой Колборн, провожая покидающего мою усадьбу Горсея. — Он это запомнит.
Может и так, но я добился того, чего хотел. Какими средствами — уже не так важно. Теперь нужно получить серебро от Горсея, и вернуться с ним в Можайск. Пускай дорога много времени не занимает, мне отчего-то она казалась слишком долгой. А время шло, и Смоленск мог сдаться в любой момент. Я клял себя за то, что не помнил, сколько он ещё продержится. Ну почему я так скверно учил историю в школе — ведь было там про осаду Смоленска Сигизмундом, точно было. Вроде долго держались, но и так больше полугода прошло, а это срок немалый. Перезимовать в осаждённом городе дело простое, а держаться после этого ещё сложнее. Так что надо спешить — вот это я понимал лучше всего.
— Барыш подсчитает, позабудет, — отмахнулся я. — Что ему на меня таить обиду, если я его мошну наполню до краёв.
— Но и выгода могла быть больше, если бы ему дали больше времени, — не согласился Колборн. — Золото, конечно, глаза застит, но всякий раз на ум приходят мысли о том, что можно было и побольше получить.
— Надеюсь, всё же Горсей не настолько злопамятен, — усмехнулся я, однако слова английского полковника запомнил.
[1] 12 февраля
* * *
Горсей не обманул, и уже неделю спустя в казённой палате Английского двора мы с Колборном получили тяжеленный сундук, полный серебряных монет различной чеканки. У нас ушло довольно много времени, чтобы при помощи нескольких таблиц свести всё к единой сумме. Тут мне помогал Колборн, как наёмник отлично разбиравшийся в монетах самых разных стран. Правда, и память Скопина не подвела, я легко отличал ефимки обычные от любских, новых любских и крыжовых они же рьяльские, а к тому же мог опознать «плешивца» по непокрытой голове шведского короля и «единонога» по прикрытой гербовым щитом ноге короля датского.[1]
Сумма сошлась, и мы забрали сундук. Для этого пришлось взять с собой пару послужильцев покрепче, из тех, кто остался в моём московском имении. Они едва дотащили тяжеленный сундук до моего дома.
На прощание я пожал руку лорду Горсею. Тот как будто не таил на меня обиды, однако верить в искренность столь опытного дипломата было бы просто глупо.
— Будет ещё партия соболя по столь хорошей цене, — сказал он на прощание, — ты знаешь, где меня искать, князь.
— С тобой крайне приятно вести дела, милорд, — кивнул я в ответ.
На этом мы и расстались.
Я успел ещё заехать домой, отдать все распоряжения насчёт будущей поездки, и прямым ходом отправился в светёлку моей супруги.
Она обняла меня, и мы как-то сами собой оказались на кровати, причём уже в моих палатах.
— Ох, Скопушка, — проговорила Александра, когда любовный жар спал и мы лежали рядом, ещё разгорячённые, но уже не способные что-то сделать. Пока, по крайней мере, — а силы мужские к тебе вернулись уже совсем.
— Я думал, в прошлый раз ты это поняла, — ответил я чуть обижено.
Александра звонко засмеялась. Красивый у неё был смех, будто серебряный колокольчик звенит.
— Глупый ты у меня, Скопушка, иногда, — толкнула она меня кулачком в плечо. — Я же не о тех силах, о каких вы, мужчины, всё в постели думаете. Ты ж меня от моей светёлки до своих палат на руках донёс — вот о какой силе говорю я.
Тут уж и я не удержался, и расхохотался в голос, крестя привычным движением рот, когда разевал его слишком широко.
[1] Попадавшие из Европы в Россию крупные серебряные монеты получили название «ефимков». Словом «ефимок» обозначались все талеровые монеты высокой пробы весом от 28 до 32 граммов, однако для отдельных их типов бытовали специальные названия. Например, талеры города Любека и сходные с ними назывались «любскими ефимками», голландские рейксдальдеры — «новыми любскими ефимками»; нидерландские патагоны с бургундским крестом — «крыжовыми» или «рьяльскими»; шведские далеры, на некоторых из которых изображался король с непокрытой головой — «плешивцами», датские далеры с фигурой короля во весь рост и одной ногой, прикрытой гербовым щитом — «единоногами»
Глава девятая
Крепкий орешек
Обоз у меня был, конечно, не такой большой, каким ехал из Москвы в Можайск князь Дмитрий. Один крепкий возок с казной да несколько дворян с послужильцами в сопровождении, а за ним катила пара телег, накрытых тентами, куда загрузили припасы для офицеров наёмников и командиров русского войска. Я собирался по традиции хорошенько накормить всех перед выступлением, благо время не постное, можно и разговеться, не прибегая в уловке насчёт похода.
Москву мы покинули с самого утра. В этот раз рисковать не хотел, и собирался быть в Можайском лагере хотя бы и к полуночи, но ехать без остановок. Лошадей не гнали, тяжело гружёный возок с казной тащили сразу шесть их, запряжённых цугом, и то она катилась едва ли быстрее пешехода. На ямские станции я заранее отправил гонцов, чтобы там держали для нас свежих коней. Менять их я собирался на каждой, как верховых, так и упряжных. Для этого получил особую грамоту — царь Василий выписал её так быстро и охотно, как будто не желал, чтобы я оставался в Москве ни единого лишнего дня.
В дорогу взял всех дворян из московской усадьбы, никого не оставив для обороны. Как уже писал выше, если возьмутся за меня по-настоящему этих людей не хватит всё равно, а в дороге мне важен каждый обученный всадник. В том, что по дороге нас попытаются ограбить я ничуть не сомневался, хотя и был бы рад оказаться неправ.
Напали на нас ближе к вечеру, не доезжая пару часов до ямской станции, когда лошади уже притомились, и возок с казной ехал со скоростью хромой улитки. Сперва, конечно же, раздался лихой свист, а после из редкого подлеска, окружавшего дорогу, вылетели с десяток всадников.
— Лисовчики! — закричал кто-то из моих людей.
Может, и они, подумал я тогда, а может и ещё кто, но уж точно не лесные шиши. Это явно организованное нападение. Больше всего напавшие на нас всадники походили на запорожских казаков, какими их рисуют на иллюстрациях к «Тарасу Бульбе» или «Огнём и мечом». Польские кафтаны, широкие штаны, высокие кавалерийские сапоги, лихо заломленные набекрень шапки. Сабли и луки в руках. Кое у кого даже чубы болтались.
Они обрушились на наш отряд лихой лавой сразу с двух сторон. Захлопали пистолеты, засвистели стрелы. И мои люди, и нападавшие не чурались луков.
— В сабли их! — крикнул я, давая подуставшей кобыле шпоры.
Я налетел на первого врага, не успевшего ещё убрать лук, и одним быстрым ударом покончил с ним. Не до джентльменства — бой идёт. Замешкался — твои проблемы. Я промчался мимо валящегося из седла лисовчика. И тут же схлестнулся со следующим. Этот оказался проворней, отбил мой удар и сразу контратаковал.
Я полностью отдался памяти Скопина, как и во всех тренировочных схватках. Князь при жизни неплохо владел саблей и полагаясь на силу и ловкость лихо рубился в седле. До настоящих фехтмейстеров ему было далеко, да и нужны особой не было никогда. А вот сейчас мне попался враг опытный и опасный. Хорошо, что не забрасывал тренировки и регулярно звенел клинками то с Делагарди, то с Болшевым. А когда было время для конной схватки, то противниками моими были Колборн или Зенбулатов. Крещённый татарин сидел в седле, словно кентавр и так лихо рубился своей кривой саблей, что я едва успевал за ним. Нынешний враг мой был ничуть не хуже, вот только цена ошибки — куда выше. На кону стояла моя голова.
Я не уклонялся — рост и телосложение не давали мне шансов, оставалось только парировать удары и бить в ответ. Однако враг мой оказался ловким и быстрым, он наезжал то с одной стороны, то с другой, рубил сверху и снизу, целя в ноги. Все мои контратаки натыкались на клинок его сабли. Я подталкивал кобылу, не давая разрывать дистанцию, держался как можно ближе к нему, чтобы враг не успевал как следует замахнуться для удара. И сам бил в ответ так сильно, как только мог, понимая, что его ловкости могу противопоставить только свою силу.