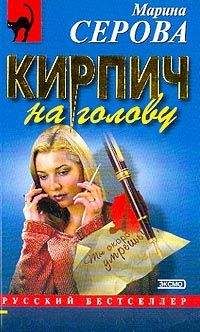Мы из блюза (СИ) - Сорокин Дмитрий
- Н-н-е понял…
- Твою мать! Бабища в моей постели – кто такова?!
- Ах, это… - на губах слуги заиграла сальная улыбочка. – Так это графиня Клейнмихель, батюшка. Как вечор приехала приобщиться вашей благодати-с, почтенный наш старец, так и…
- Благодати, значит. Вот что, друг мой. Как проснётся – в шею гони.
- Всенепременнейше-с! Чего ж теперь изволите? Может, дохтура кликнуть?
- Нафи… Ээээ… Зачем доктора?
- Вы сам не свой сегодня, батюшка, - доверительно шепнул плюгавый, - и говорите совершенно по-господски-с!
- Благодать снизошла, - бухнул я, не подумав. Но, вроде, проканало.
- Тогда конечно…
- Отведи-ка меня к зеркалу, голубчик. Благодать благодатью, а водочка ещё не дошла по назначению, и худо мне. – Сочетание имени-отчества, упоминание благодати, старца, мадеры и великосветская шлюха в постели навели меня на очень печальные мысли. Очень.
Да. Уж попал, так попал. Вот это то, что я называю, мать твою, настоящим блюзом! Из зеркала на меня смотрел крайне мрачный мужик с длинными руками, обладатель косматой шевелюры и не менее косматой бороды. Но это всё семечки. Между шевелюрой и бородою помещалась премерзкая харя – по-другому не назовёшь, - и, что всего хуже, я прекрасно знал, как зовут носителя всего вышеперечисленного. То есть теперь меня. Григорий. Ефимович. Распутин. Прониклись? Вот и я тоже.
Постояв немного с закрытыми глазами, я попытался вспомнить всё, что знаю о Распутине. Немного. Затворял кровь гемофиличному цесаревичу (как?), ежедневно надирался мадерой (бррр!), трахал всё, что шевелится (и царицу?), был убит в декабре 1916 года князем Юсуповым, Пуришкевичем и ещё кем-то из Романовых. Добротно же учили в советской школе! Тридцать лет прошло – а вон, сколько всего помню, хоть провёл эти тридцать лет тоже не в посте и молитве, а как бы не покруче, чем тот же Гришка Распутин… Стоп. Меня чего, убьют скоро? Хорошенькие же новости…
- Вот что, друг мой, - начал я, открыв глаза.
- Ещё водочки-с? – понятливо кивнул слуга.
- Нет, это позже. Сильно позже. Принеси-ка ты мне кувшин рассолу огуречного, да газету нынешнюю.
- Газету?! – Похоже, плюгавенький мой домовой, явно поклявшийся себе ничему более не удивляться, только что стал клятвопреступником. – Но какую?
- Любую. Но чтоб за сегодня! - отрезал я. – И рассолу мне!
Через пару минут кухонная мымра притащила кувшин рассолу и тарелку с солениями. Не успел я перейти к насыщению подкошенного пьянством организма солями, как вернулся мой дворецкий, победно размахивающей газетой.
- Вот-с, Григорий Ефимыч, нашёл-с! Как есть, сегодняшняя! Эвон, написано: Пятое септембера. Правда, аглицкая она, но вам же, поди, и так сойдёт?
Слегка офигев, я взял номер «Нью-Йорк таймс» от 5 сентября 1916 года, и буркнув «хрен с ним, сойдёт, отдыхай», погрузился в чтение. Минут через пять спохватился, что в комнате стоит мёртвая тишина. Дворецкий, кухарка, ещё пара не встреченных мной прежде слуг и даже пробудившаяся ото сна графиня Клейнмихель – как была, в одной ночнушке, - распахнув рты, в полном обалдении наблюдали, как Гришка Распутин, похмеляясь рассолом и солёными огурцами, вдумчиво изучает «Нью-Йорк таймс». Я могу их понять: зрелище, наверное, эпическое. Откуда им знать, что я, в отличие от Гришки, десять лет отучился в английской спецшколе, да и потом язык не запускал особенно… Наконец, плюгавый дворецкий не выдержал:
- Григорий Ефимыч, чего пишут-то?
- Да про войну всё пишут, - вздохнул я. – Про Грецию, в основном: и немцев оттуда гонят, кого не похватали ещё, и вообще, вступает она в войну на стороне Антанты…
- Свят-свят-свят! – закрестились присутствующие. Причём, скорее всего, не от содержания новостей, а от самого факта, что «старец Григорий» вдруг стал разуметь английский язык.
- Ещё про кайзера германского всякие гадости пишут, - сообщил я, - и про нашего царя-батюшку тоже, но я вам говорить не стану, дабы умы ваши не смущать… - тут я вперил распутинский тяжёлый взгляд в недавнюю соседку по кровати, и, решив схулиганить, произнёс нараспев, отбивая ритм босой ногой:
- А ты, распутная красотка, учись гимнастике скорей.
Как быть желаешь вечно юной, учись гимнастике скорей.
И, упаси Господь, не шляйся
Ты по постелям кобелей!
Короче, иди и не греши более, - строго добавил уже прозой, не снижая тяжести взгляда. Бабища мелко закивала, и, всхлипнув, кинулась одеваться. Я продолжал читать газету двухнедельной давности (вспомнил про зазор календарей!), когда она покинула моё жилище. Прикончил рассол и проверил организм: ничего, жить, кажется, можно. Осталось понять, как именно и что вообще дальше делать. Подумать, короче, надо. А лучше всего я соображаю, перебирая струны, как ни странно.
Прислуга всё ещё молча таращилась на меня.
- Значит, так, друзья мои, - я окончательно плюнул на поддержание образа «старца Григория», всё равно не моё оно, проколов уже наделал, и сколько ещё наделаю. Гори оно огнём, и далее по тексту! Просто буду самим собой! – Значит, так. Мне нужна гитара, скамейка и пустой деревянный ящик.
- Григорий Ефимыч, отец родной, так где ж яё взять-то, гитару-с? Разве, у дворника балалайка была… - похоже, дворецкий, во избежание нервного срыва, такими вопросами как «зачем» и «почему» решил более принципиально не задаваться. Похвально-с!
- Хрен с ней, тащи балалайку. Но гитару добыть, и чем скорее, тем лучше. И не на поиграть, а насовсем.
- Батюшка, да зачем она тебе нужна-то, гитара эта? – не выдержала кухарка. Я вперил в неё фирменный взгляд:
- Чтобы играть. Ещё вопросы?
Вопросов более не последовало. Зато в скором времени принесли скамейку, ящик и балалайку. Взяв это всё, я вышел на лестницу и начал спускаться.
- Григорий Ефимыч! Отец родной! Куда?! – заголосили слуги.
- На улицу, - пожал плечами.
- В исподнем?! – ахнули слуги хором, и пришлось согласиться, что вид не самый подходящий для блюзмена. Впрочем, весь вид Распутина слабо сочетался с моими представлениями о хорошем стиле, но над этим мы ещё поработаем.
Оделся, возобновил выход в люди. На пороге остановился, обернулся.
- Улица наша как называется, напомни-ка? – дворецкому.
- Так Гороховая же! – прошептал он, глядя на меня круглыми от ужаса глазами.
- Иди водку пей. И кухарке налей. – И вышел, придержав дверь.
Кажется, весь мир, включая Гороховую, замер, когда я вышел на улицу.
- Святый старче Григорий! – возопил сидящий у моих дверей нищий. – Благослови мя, многогрешнаго, и подай копеечку убогому!
Ухмыльнувшись, запустил руку в карман штанов: там, помнится, что-то брякало, а одна монета звука не даст. Точно, три: копейка, пятак и золотой червонец. От червонца у него репа нафиг треснет, копейка самому нужна, как медиатор, - так что держи-ка ты, бомжара, пятачок, и отойди подальше, а то пахнешь больно стрёмно. А благословения у попов проси, я-то тут с какого боку? Так-то вот. Поставил скамеечку, ящик – под правую ногу. Эх, давно не брал я в руки балалайку! Настроим родимую: первая струна – ля, все остальные будут ми, а слух у меня абсолютный по жизни. Готово дело. Ну, вот что они столпились? Идите, люди! У вас свои дела ведь есть, у меня свои…
Я слышал мнение, что играть двенадцатитактовую «дельту» на чём-либо, кроме «Нэшнла» - лютое кощунство. Окей, не станем расстраивать ортодоксов. У меня всего три струны, а тактов пусть будет шестнадцать. И косматый, с бодуна, Гришка Распутин заиграл посредь Гороховой блюз на балалайке, отстукивая подкованным каблуком по ящику – хоть здесь всё по канону. Оторопелый народ толпился вокруг. Вот распахнула рот простая баба в платке – не то торговка, не то прислуга; замер заинтересованно расхристанный гимназист, смывшийся с уроков, судя по времени; презрительно глядит на меня юная барышня из притормозившего авто… Похоже, на Гороховой сейчас будет некислая пробка, но это пока не мои проблемы. Когда ещё Гришка Распутин им настоящий блюз сыграет!