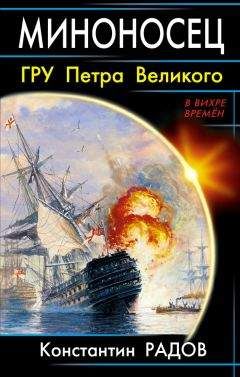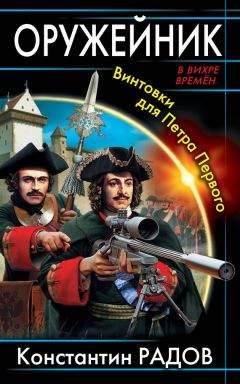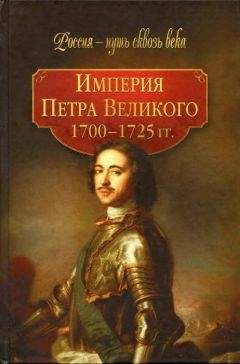Константин Радов - Новоросс. Секретные гаубицы Петра Великого
Вот скажи, друг мой разлюбезный… Прости фамилиарность, но у вас там, наверно, — без чинов? Ну, слушай: общепризнано у христиан, что большой грех — держать единоверцев в рабстве. Разве на негров сие правило не распространяют. Магометане, и те… Да, я им враг непримиримый — но справедливость следует отдавать даже врагам. Они правды держатся: раб, принявший магометанский закон, получает волю. Только у нас… Да черт с ней, с Венецией! У нас — значит в России. Так вот, У НАС ни один блюститель веры не видит морального препятствия тому, чтобы продать такого же русского, православного человека на уездном базаре прямо с воза. Ни один сукин сын не видит! И церковь — мало того, что не осуждает — САМА рабами владеет.
Знаешь, чего я боюсь?
А ведь боюсь взаправду! Понимаешь, вот жители Содома и Гоморры… Уверен, они даже не задумывались о греховности своей жизни. Привыкли. Не одним днем обычаи установились. Жили по старине. Вдруг ка-а-ак шар-р-рахнет!
Сколько нам времени на покаяние да исправление отпущено, никто не знает. Скажу одно: коли Бог есть и правит миром, а мы от сей неправды не отстанем — России несдобровать. Ну, а ежели Его нет… Несдобровать тем боле!
Днем разум вроде бы сохранял ясность, но в сумеречные часы не раз приходило ощущение, что призрачный мой визави вот-вот ответит. Что делали экспедиторы Тайной канцелярии, подслушивая монологи, обращенные в пустой угол? Выискивали крамолу в словах опального генерала или докладывали начальству о помрачении его ума? А ты, любезный читатель — тоже, небось, вертишь перстом у виска? Попадешь в мое положение (не приведи, конечно, Господь!) — уверен, что не начнешь вести светские беседы с тюремными мышами и тараканами?
Дни складывались в месяцы. Лето проминовало. Царь должен был давно вернуться из Риги — но обо мне, похоже, забыли. Однажды грохот пушек и отсветы отдаленного фейерверка достигли моего чулана в неурочный день. Война шла своим чередом: кто-то одержал новую викторию, а я мог только гадать о подробностях оной.
Несколько дней спустя ржавые петли завизжали веселей обычного, и глядящий деревянным идолом караульный офицер молча показал рукою на выход. Казнь или милость?! Узникам никогда не говорят заранее. Царь любит устраивать театр на эшафоте: обычно помилование объявляют, когда голова преступника лежит на плахе, а палач размахнулся для последнего удара. Или даже так: лезвие топора со свистом опускается, сокрушая невинное бревно рядом с виновной шеей — и только после сего жертва слышит о смягчении приговора.
Однако эшафот, похоже, откладывался. Не успели уняться кружение головы от бескрайнего неба над головой, опьянение от свежего воздуха и восторг от капель дождя на щеках — уже пришли. Двое конвойных солдат замерли у двери снаружи, другая пара сопроводила в присутствие и стала обочь, сторожко косясь на меня. Сидящий за столом секретарского вида невзрачный субъект не повел бровью и не поднял глаз от бумаг. Выждав достаточно времени, чтобы дать опальному вельможе прочувствовать собственное ничтожество перед ним, грозным вершителем судеб, он пробормотал что-то невнятное себе под нос. Я улыбнулся ответно с невольным дружелюбием, коим встречаешь каждое живое существо после месяцев одиночного заключения. Тайный канцелярист оскалился, подобно бешеной крысе:
— Ты чего, слышишь плохо?! Отвечай, вор, когда тебя спрашивают! Не то под кнутом говорить будешь!
Бледная кожа пошла розовыми пятнами — от гнева, что перед ним не трепещут. Слипшиеся сосульки белобрысых волос выбились из-под дешевого парика.
Там, куда указывал немытый палец с обгрызенным ногтем, действительно висел прикрепленный к потолку корабельный блок — атрибут усовершенствованной дыбы. После смерти князя Федора Юрьевича новомодные инвенции не обошли и пытошное дело.
Какое-то время я глядел на исходящего злобой экспедитора с недоумением — ну не готов был ответно разозлиться, и все тут! Механизм души без употребления ржавеет, надобно раскрутить его о других людей, чтобы вернуть способность производить те или иные чувства.
Допросчик мой, утратив надежду застращать взглядом, перешел к словам.
— Ведомо нам из доношений многих людей о богопротивном чародействе и чернокнижестве, посредством коего ты на государево здравие злоумышлял, имея с диаволом действительное обязательство…
Медленно, как тяжелая чугунная болванка, накалялась ярость. Рассеянный взгляд мнимого чародея скользил по бритому кадыку чиновника. Схватить за горло, может быть, и получится — но удавить преображенцы не дадут. Фузею у солдата отнять? Не выйдет, ослаб сидючи-то… Корм идет из одного котла с гвардейцами — а сил нету… В чем причина? Отравление миазмами, по Сильвию де ла Боэ, или же слабость идет от недостатка моциона, как считал Джироламо Меркуриали?
Ну ни хрена себе обвинения! Чародейство, при действительных сношениях с дьяволом, по артикулам означает костер. Правда, статья эта мертвая: не припомню случая, чтобы кого-нибудь за то сожгли… Как бы ради меня ее не оживили! О покушении на здравие государево — что и говорить. Колесование, без послаблений!
Вот интересно, а что вдруг мои враги засуетились? Отсечение головы их уже не устраивает — или вопрос с помилованием решен, и они боятся мести? Правильно боятся: дайте только выбраться отсюда… Христианское милосердие? Правила чести? Забудьте! В турецкой войне мне не мешали подобные ограничения — а эти господа хуже турок. Намного хуже!
Чего там писарченок из Тайной канцелярии от меня хочет?
— Говори, вор!
— Обращайся ко мне "Ваше Сиятельство", если желаешь получить ответ. Достоинство графа Священной Римской империи даже государь Петр Алексеевич отнять не может. А сие означает, что верховный суд надо мной принадлежит имперскому сейму в городе Регенсбурге.
— С-с-е-е-йму!.. На дыбе тебе будет сейм, твое ...ятельство!
Он еще долго и гнусно сквернословил, однако легко было догадаться, что перейти от угроз к делу допросчик при всем желании не может: не дозволено. Все это пахло обманом и подвохом. Да что там пахло — воняло, как в гошпитали для скорбных животом! Привести узника в бешенство и заставить броситься врукопашную — а там стража его вправе и насмерть прибить. Сам виноват окажется!
Ловушка примитивная, но едва не сработала. Ночью в каземате сосчитал, сколько будет дважды два: все стало понятно. Шведы воевать не могут, потому что у них денег нет. Мир означает амнистию. Судя по всему, мирный трактат либо уже ратификован, либо проходит последнюю шлифовку перед высочайшим одобрением. Вытерпеть еще немного, и государь меня простит. А я его? Не знаю, посмотрим. Большого дурака свалял, что не подготовил запасную позицию за границей — теперь, ежели уехать из России, придется все с нуля начинать.
Человек предполагает… Усталость и тяжесть в груди, давно меня угнетавшие, день ото дня усиливались; к ним прибавились боли в суставах, начали кровоточить десны. Видал такое прежде — цинга! Нет худа без добра: сонная апатия, сопутствующая этой болезни, помогала стоически переносить неприятельские потуги добавить мне новую статью. Навесят колдовство? Чушь, колдовства не бывает. Сожгут? Пусть — хотя бы согреюсь перед смертью! Ночи становились все холоднее. Зарывшись в гнилую солому и натянув всю свою одежду, я стучал зубами при самой легкой прохладе… Если амнистия задержится — зиму не переживу. Еще полгода назад переносил такую погоду без малейших неудобств — здоровья хватало…
К цинге прибавился сухой, злокачественный кашель, через неделю перешедший в кровохарканье. Начался жар, лихорадка помрачила разум. Сколько дней минуло в полубреду? Бог знает… В моменты просветления посещала мысль, что мне, всего скорее, из крепости не выйти — но не вызывала протеста. Люди смертны. Раньше или позже — не все ли равно? Жизненные силы иссякли.
Освобождение не помню. Или очень смутно. Куда меня тащат? Оставьте наконец, в покое, мучители! Худая телега влачится по непролазным осенним лужам. Щелястый потолок из некрашеных досок, стены не лучше — отовсюду дует. Гарнизонная гошпиталь? Важный немец щупает пульс. Вроде бы раньше его видел, и даже помнил, как зовут… Неважно, черт с ним! Из-за спины доктора слышны мучительные стоны: схватившись руками за живот, корчится на постели долговязый детина в исподнем. Усатый подлекарь подносит ему ипекакуану, заставляет пить. Я счастливей соседа: на мою долю достается рюмка лауданума. Блаженное забытье растекается по членам…
…Тусклая лампада над соседней кроватью не в силах разогнать мрак. Из-под казенного одеяла торчит мосластая нога, бледная, как у битой курицы. Остальное загораживают две плотных спины.
— Отмучился. А с тем что делать будем? Коли он тут залежится — как бы беды не нажить. Дохтур-то чего сказал?