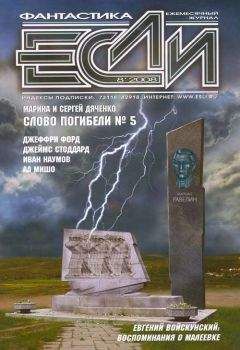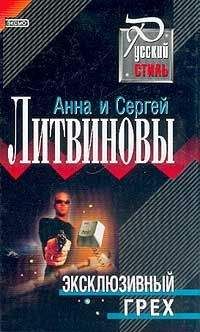Сергей Арбенин - Дети погибели
Слава Богу. Мёртвому Богу.
Он, Рысаков, сделал это. Он сделал главное, чего не смогли бы сделать ни Гриневицкий, ни Михайлов, ни даже Желябов; никто из их «Великого Комитета».
Он Бога убил. Бога-мальчика. Маленького Бога России.
И он знал: теперь ни государя, ни Россию уже ничто не спасёт.
Внезапно перед заплывшими глазами стоявшего на коленях Рысакова появилась страшная окровавленная рожа. И она выкрикнула, дёргая половинкой лица:
– А, так вот ты, сицилист, интеллигент проклятый! Ты! Ну, я тебя чичас приложу…
Он размахнулся кулаком в рукавице, – и словно свинец ударил Рысакова в ухо. Рысаков внезапно поплыл, но не вперёд, не вбок, не назад, – вниз. Всё ниже и ниже, в белую ледяную вату, в какую-то бездну, в которой не было ни единого огонька, а только чёрное небо и обжигающий ветер.
Навсегда.
* * *
Между царём, застывшим в оцепенении, и Гриневицкий оставалось несколько шагов, и никого вокруг, и никого – между ними. Никого, кроме раненых и убитых. И ещё – опрокинутой корзины мяса, словно приготовленного для заклания.
– А вы? Вы не ранены?.. – успел спросить государь у своего убийцы.
Но Котик не ответил. Он швырнул свёрток к ногам императора.
Второй взрыв грохнул так сильно, что покатились над Екатерининским раскаты, и с уродливых голых крон Михайловского сада поднялись стаи ворон. Но их неистового карканья не было слышно: словно вороны вдруг онемели.
И всё. Кромешная тьма.
Хотя нет: тьма была белой: это качался дым, которым заволокло на этот раз всё вокруг. И множество людей корчились на лазаретного цвета снегу, пытаясь вернуться туда, в прошлое, каким бы оно ни было. Но вокруг было только будущее: сгущающаяся тьма.
Маленький Бог, совсем недавно родившийся Бог России – умер. И погиб весь созданный для него мир.
* * *
Государь сидел, откинувшись на руки. На нём почти полностью сгорела шинель, – казалось, только воротник и остался, который он одёргивал на себе секунду назад. Вместо ног – кровавая каша; пульсирующие фонтанчики крови. Почерневшие клочья мундира, белые кости раздробленной ноги. И громадная чёрная яма, вырытая взрывом в мёрзлом снегу; яма, доставшая рельсы не используемой зимою конки.
Как заворожённый, государь смотрел на свою полуоторванную изуродованную ногу, будто пытаясь осознать, почему же она не повинуется ему, почему она стала внезапно чужой, не принадлежащей ему частью тела.
Но и это был ещё не конец.
* * *
Полицмейстер Дворжицкий склонился над царём, бестолково тормоша его и силясь помочь, хотя помочь было невозможно.
Вопили раненые – кого-то посекло стеклом разбитого газового фонаря, кого-то – осколками булыжника.
Нелепо и неуместно торчал из чёрной ямы завитый кольцом рельс.
Государь вдруг поднял голову и посмотрел мимо полковника Дворжицкого. И снова всё понял, уже во второй раз. Полковник, перепачканный собственной кровью и кровью императора, что-то закричал.
Крик упал в вату и заглох.
– Помоги… – внезапно, тихо и явственно произнёс государь.
Дворжицкий зачем-то подал ему платок.
– Холодно… – прошептал государь. – Очень холодно…
В дыму появилась третья фигура. Согнувшись, к государю подбирался ещё один метальщик. Он тоже двигался боком, скрываясь позади тех, кто оставался в живых, кого не смяло, а лишь контузило взрывом. Это был Тимофей Михайлов. В руке он держал портфель и на ходу вытаскивал из него что-то…
Рысаков, на секунду приподнявшись из тьмы и льда, тоже увидел его. Когда до поверженного Государя оставалось несколько шагов, Михайлов побежал…
Но больше Рысаков ничего не увидел. Снова здоровенный кулак в рукавице припечатал его в разбитое лицо, и голос, полный жуткой ненависти, прошипел в окровавленное ухо:
– На царя, значить, замахнулся, а? Крамолу, значить, замыслил, а?.. Ах ты, мать-перемать!..
И снова в лицо, и снова…
– Я… не… – силился, выплевывая сгустки крови и осколки зубов, выговорить Рысаков, но ему не давали.
– Ты, ты, жидовин проклятый, иродюга!
А Рысаков, которому вдруг стало холодно и страшно, хотел лишь вымолвить, что он не того убил, кого требовалось, и ещё – хотел в последний свой миг покаяться в грехе своём нечеловеческом.
Прощёное воскресенье… Судный день.
* * *
– Слыхали? Говорят, на Малой Садовой царя убили!
– Да нет! Не на Малой! На Итальянской!
– На Инженерной, – верно говорю!..
Серый прохожий – в сером сюртуке, с жидкими, пегими, почти серыми волосами, – приостановился. Он хотел, но не мог возразить. Не на Малой Садовой, хотя в подкопе под нею и лежат пуды динамита, и не под Каменным мостом, под которым на дне в гуттаперчевых подушках преют ещё семь пудов… А впрочем…
– Они простят нас, добрые люди, – вполголоса сказал он мальчику, которого держал за руку, – голую, без рукавички.
– А Бог? Бог простит? – так же тихо спросил его маленький спутник.
Проводник его не ответил; лишь ещё больше ссутулился и нахмурил гигантский мраморный лоб.
– Мне холодно, – прошептал мальчик. – Очень пальчики озябли. Больно!..
Спутник только крепче сжал его ручку.
– Потерпи. Ведь мы сейчас идём на праздник. На праздник к самому Христу.
– А долго еще идти?
– Нет. Совсем недолго.
* * *
А на тротуаре орали:
– Кого? Кого убили?
– Царя, тебе говорят! Да куды ты прёшь со своей бочкой?
Возчик-водовоз (белая бочка – вода из Невы; у этого бочка зелёная, – с водой из Фонтанки, значит) почесал голову, сказал недоверчиво:
– Не… Царя вить так просто не можно убить. Уж сколь раз покушались, злодии! И обратно Бог милует.
Человек в сером едва заметно покачал головой, взглянул на мальчика, который семенил рядом. Ещё крепче сжал его холодную, – нет, ледяную, мёртвую – ручку.
Нет, теперь Бог никого не помилует. Да теперь и миловать-то некому.
И просить прощения за свои и чужие грехи – действительно, у кого?
* * *
«Из лиц, смертельно раненных:
крестьянин Николай Максимов Захаров, 14 лет, мальчик из мясной лавки. Доставлен в бессознательном состоянии, с прободающею раною черепа в левой височной области, с повреждением средней мозговой артерии и ткани мозга; разорванные ранки пальцев правой ручной кисти и кровоподтёки левого предплечья и нижних конечностей. В продолжение 40 часов раненый находился в полном бессознательном состоянии, по временам появлялись судороги верхних конечностей. Умер 3 марта 1881 г. в 12 часов пополудни».
(«Дневник событий с 1 марта по 1 сентября 1881 г.» – СПб, 1882).
Книга первая
ДЕТИ ПОГИБЕЛИ
ШАРЛОТТА
МОСКВА, КРЕМЛЬ.
Сентябрь 1934 года.
(Эхо 30-х годов ХХ века).
Сталин смотрел, слегка прищурившись, склонив голову набок. Перед ним сидел Морозов, который, несмотря на свои восемьдесят лет, вовсе не казался дряхлым стариком. Бывший член Исполкома «Народной воли», сторонник террора, «шлиссельбургский сиделец» с 23-летним стажем, а ныне – уважаемый учёный, народный академик вошёл в кабинет суетливой походкой, слегка поклонился, покраснел и сел на самый дальний от вождя стул.
Морозов лишь изредка осмеливался бросать на Сталина косые взгляды. Он всё ещё не мог опомниться от стремительности событий: вечерний звонок домой, в бывшее фамильное имение Морозовых, а теперь научный центр Борок; присланный из Москвы автомобиль; бешеная езда по ночным пустынным дорогам; Москва, Красная площадь, и – святая святых: Кремль. Громадные гулкие коридоры, часовые, застывшие истуканами, и совсем незнакомый проводник: человечек в затрапезном костюме, лысоватый, в очках…
Человечек шёл быстро, так быстро, что Морозов не успевал оглядеться. Перед ним вдруг открылись, словно сами собой, громадные двери; внутри, в большом кабинете, за столом сидел он, вождь мирового пролетариата, чьё имя известно всей планете.
Морозов сел за длинный стол, в торце, на пружинный стул. Ошалело огляделся: да, почти всё так, как он себе представлял. И вот он, совсем близкий, и в то же время недосягаемый, Иосиф Виссарионович Сталин. Стояла глухая тишина, хотя было уже утро и огромный город за портьерами окон, за зубчатыми стенами Кремля, медленно просыпался.
Наконец Иосиф Виссарионович прервал паузу и спросил ровным голосом:
– Как ваше здоровье, Николай Александрович?
Морозов нервно кашлянул.
– Спасибо, Иосиф Виссарионович… В мои годы, сами понимаете, – грех жаловаться…
Сталин улыбнулся, взял трубку и постучал по идеально чистой пепельнице. И внезапно, без перехода, всё тем же ровным голосом спросил:
– Что вам известно о лигерах, Николай Александрович?
Морозов по-юношески привскочил от неожиданности, покраснел и тут же снова сел.