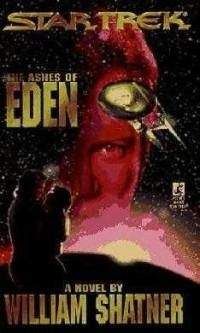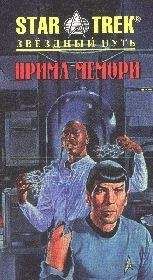Константин Шильдкрет - Розмысл царя Иоанна Грозного
— Эвона что, — почти весело подмигнул он хозяину. — Выходит, есть ты боле не господарь, коли всяк смерд не страшится поперёк твоей воли идти.
Прозоровский вспыхнул.
— Бывает, и жгут бояр!
Они по-петушиному пригнули головы и тяжело задышали, готовые вцепиться друг в друга. Однако гость первый пришёл в себя.
Едва сдерживаясь, Ряполовский выдавил на вспотевшем лице заискивающую улыбочку:
— Все ходим под Богом, Арефьич! — И с глубоким вздохом проворчал под нос: — Ходил бы великой князь под нашим праведным наущением, нешто сталось бы тако, чтобы нам смерды перечили?!
Хозяин присел на лавку и яростно заскрёбся спиной о стену.
— А коли не зрим, гостюшко, от Иоанна Васильевича прохладу, не оскуднела покель и своя казна зелейная. — Неожиданно взор его ожил и просветлел. — Волишь ли, Афанасьевич, повоеводствовать над ратниками моими?
Симеон шлёпнул себя по жирным бёдрам и счастливо осклабился.
— Волю! Да ежели…
* * *
Недолго собирался Ряполовский в поход. За день всё было готово. Отслужив молебен, ратники на рассвете двинулись в путь. Боярыня и Марфа далеко провожали отряд.
Приложившись в последний раз к руке отца, девушка попросила сквозь всхлипывания:
— Ежели сыщешь шутиху — не казни. Пожалуй ведьму ту мне на расправу.
Пелагея нежно прижала к груди дочь.
— Дитятко моё горемычное…
От слёз густо набелённое лицо изрезалось широкими бороздами. Ярко выкрашенные губы трепетно вздрагивали и тянулись к колену мужа.
— Да благословят тебя, осударь мой, вся сонмы небесные на правое дело.
И долго ещё после того, как скрылся отряд, боярыня нараспев причитала, рвала на себе ферязь и заученно, как велось от древлих времён, голосисто ревела.
* * *
Взвыла губа от подвигов самозваного воеводы. Всё, что не успели схоронить худородные, ограбили и увезли за собою ратники.
За весь поход Симеону ни разу не пришлось вступить в бой. Всюду его встречали предупредительно, с дарами и хлебом-солью.
Князь супился, не доверял и сам чинил обыск в усадьбах.
Обиженные потихоньку уходили с челобитной в губу и умоляли вступиться за них. Но окольничий и староста никого не допускали к себе и, чтобы оправдаться перед Москвой, посылали для вида стрельцов в такие поместья, которые, по донесениям дьяков, уже были ограблены.
Разорённые до тла дети боярские снарядили послов на Москву, к самому великому князю, а пока что переложили все убытки на холопей своих.
* * *
Стояла осень, время для сбора тягла. Всё, что не успел увезти в свою вотчину Симеон, забрали дьяки и спекулатари князей-бояр.
Холопи взвыли. Даже для них, привычных к самым тяжким поборам, было необычно остаться сразу же, после сбора урожая, без единого снопа хлеба.
К Прозоровскому пришли с челобитною выборные от холопей.
Князь вышел к ним на крыльцо.
— Не по правде, сказываете, спекулатари творят с моими людишками?
Выборные приподнялись на четвереньках и, набравшись смелости, отрубили:
— Уйти дозволь. В северы токмо бы нам прокормиться. А осеренеет — сызнов обернёмся к тебе.
Сурово сошлись брови Арефьича. В нём всколыхнулись два чувства, упрямо не уступавшие друг другу.
«Добро бы уйти им, покель на пашне робить незабота», — расчётливо отбивалось в мозгу. Но какой-то насмешливый голос царапался в груди и протестовал, вызывая на лице густую краску стыда: «А суседи что сказывать станут? Виданная ли стать — вотчиннику быти без тьмы людишек?»
— Покажи милость, отпусти до весны!
Прозоровский запрокинул высоко голову.
— Тако вы о господаре печётесь?! И не в тугу вам, что суседи перстами в меня тыкать почнут?! Дескать, князь, а живота, почитай, мене, чем у детей худородных!
Холопи стукнулись о землю лбами.
— Помилуй! Всё едино не одюжить нам голода.
— И подыхайте, чмутьяны! Токмо бы вам плакать да печаловаться!
Он открыл ногой дверь и торопливо, точно опасаясь, что переменит решение, ушёл в хоромы. Тиун высунулся в оконце.
— Аль невдомёк вам сказ господарев?
Выборные робко переминались с ноги на ногу и не уходили.
Из подклета выскочили батожники.
— Гуй, саранча ненасытная!
И выгнали со двора батогами холопей…
Дьяки извелись в неустанной работе и не знали, что делать дальше. Уже давно было собрано всё, чем владели людишки, а до полного тягла, положенного с губы, ещё недоставало добрых трёх четвертей. Не сдавать же в казну и то, что было оттянуто для своих амбаров!
А отчаявшиеся холопи толпами бросали насиженные места и с семьями убегали из вотчин куда глаза глядят.
Князья и окольничий расставили по всем дорогам дозоры. Стрельцы окружали беглых и гнали назад по домам. Обессилевшие людишки падали под жестокими ударами бердышей и гибли под копытами ратных коней.
* * *
К Покрову дню[53] были готовы новые хоромины Ряполовского.
Весь сонм духовенства губного встречал хозяина подле кургана. На земле, убранной сверкающим пологом первого снега, распластались холопи. После молебна хозяин пригласил гостей на пир.
Усевшись на почётное место, Симеон налил Арефьичу первый кубок.
— Пей! Твоей заботой сызнов яз господарь!
И хлопнул в ладоши.
Точно приведённые в движение особой пружиной, строгою чередой заходили, переплетаясь, людишки, прислуживавшие за столами. Вкусный пар застлал трапезную дразнящим туманом. Холопи, пьяные от голода, раздутыми ноздрями впитывали в себя запахи недоступных яств и в сенях жадно облизывали пальцы, на которых прилипли от блюд капельки жира.
Для-ради великого торжества на пиру присутствовали и боярыня с дочерью. Прозоровский то и дело подливал в ковши хозяев сладкого, с патокою, вина.
Кокошник боярышни сбился на затылок, обнажив крепкие жгуты заложенных венками тёмно-рыжых кос.
Пелагея перемигивалась с соседями и, каждый раз, когда дочь прикладывалась к ковшу, с лёгкой укоризной покачивала головой.
— Нешто можно младенцу вином упиваться?
И сама гулко глотала тягучую и сладкую, как берёзовый сок, наливку, незаметно от мужа прижимаясь локтем к руке Прозоровского.
Гость блаженно щурился, с присвистом втягивая набегавшую по углам губ слюну и усердно подпаивал обеих женщин.
В трапезной, от ковша к ковшу, становилось шумливее и свободнее. Хмель развязал языки и беспечно смахнул строгую боярскую чопорность.
Кто-то стукнул вдруг по столу кулаками.
— Расступись, душа! Студёно!
И заревел во всё горло.
Спускался вечер. По углам и подле окон с зажжёнными восковыми свечами в вытянутых руках застыли холопи.
Когда большая часть гостей разъехалась, хозяин с близкими ушёл в повалушу.
Марфа уже ничего не соображала и только оглядывала всех бессмысленным взглядом осоловевших глаз.
— Шла бы в постельку, — икнула боярыня, ткнувшись головой в спину дочери.
Боярышня попыталась встать, но закачалась и рухнула на пол. Ряполовский зычно расхохотался.
— Подсоби царевне своей! Аль сама обезножела?
— Яз? А ни в жисть! — хвастливо прищёлкнула Пелагея.
Она порывисто встала из-за стола, но тотчас же изо всех сил вцепилась в Арефьича.
— Ходит! И подволока и стены ходят!
Тягучий рвотный комок поднимался к горлу. Пол уходил из-под ног, а вместо до оскомины знакомого лица Симеона на неё, кривляясь, глядела целая свора отвратительных рож.
«Был один Симеон, а ныне эвона колико стало!» Боярыня осторожно шагнула к мужу, но зацепилась за ножку стола и шлёпнулась рядом с мурлыкающей что-то дочерью.
— Ты чего? — наклонился над Марфою Ряполовский.
— Го-рит… Пог-глазей… Светлица го-рит!..
В диком испуге князь бросился к оконцу, но, вглядевшись в сумрак, облегчённо вздохнул и заложил руки в бока.
— Попытался бы кой лих человек огонь у меня сотворить!
И, хвастливою октавою:
— Два сорока стрельцов от губы поставлены по моей вотчине.
Прозоровский лукаво прищурился.
— А ты бы, Афанасьевич, уважил боярышню. Ей, сердечной, небось чудится ещё та огненная напасть. Погасил бы свечи для стати такой.
Хозяину понравилась мысль остаться во тьме.
— Гаси! — приказал он тиуну и, налив вина, закружился по повалуше.
— Пляши, гостюшки дорогие!
Но вдруг опустился на пол и залился пьяными слезами.
— Тешату подайте! Волю Тешату, сына боярского!
Его никто не слушал. Только Арефьич ткнул в его зубы корцом:
— Пей! Позабудется!
Всхлипывания стихали, переходили незаметно в прерывистое похрапывание.
Раскинув широко ноги, Симеон ткнулся лицом в кулак и утонул в хмельном забытьи.