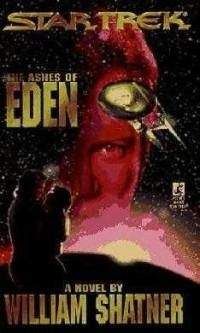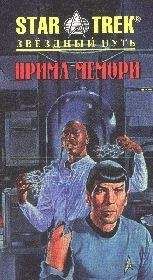Константин Шильдкрет - Розмысл царя Иоанна Грозного
— Стрекочи!
— Да к тому яз… К делу всё, Антипушка.
И прицыкивающим шепотком:
— Васька людишек подбил. Спалить норовят.
— Держите ж!
Выводков сорвался с земли и двумя могучими ударами оскорда раздробил голову языку и Антипке.
Сторож высунулся за ворота, вгляделся в тьму и пошёл спокойно вдоль тына.
Рубленник стремглав помчался к своим.
Подогретые рассказом о только что совершённом убийстве и предвкушая радость добраться вскоре к настоящему хлебу, говядине и вину, людишки спешили, позабыв об опасностях, к мирно спящей боярской усадьбе.
Первым выделились рубленники и Тешата.
По Васькиному свистку холопи прыгнули через тын и связали застигнутого врасплох сторожа.
Резкий крик пробудил молчаливую мглу. Холопи окружили хоромы.
— Жги!
Выводков бросился в подклет. Он нашёл Клашу бесчувственно повиснувшей на железах, вделанных в стену.
Шум на дворе угрожающе разрастался, будил окрестности. Багровые лапы огня пробились сквозь щели двери и суетливо зашарили по подволоке и стенам. Подклет наполнился дымом и удушливым дыханием гари.
Васька ожесточённо колотил оскордом по скрепам желез. Освободив наконец девушку, он схватил её в охапку и вырвался из пылающего подклета на двор.
Толпы холопей лавиною ринулись в погреба за боярским добром.
На выгоне выросли холмы зерна, холста, бочек, полных пива, мёда и кваса, и короба с драгоценною утварью.
Передав Клашу товарищам, Васька с горстью людей ринулся в опочивальню.
Но хоромы были пусты. Князь при первых же вспышках огня, захватив деньги и драгоценности, убежал с женою и дочерью через потайный ход в лес.
Холопи обшарили все углы подземелья и никого не нашли. Дольше оставаться в хоромах было опасно: огонь уже пробрался в сени и с минуты на минуту грозил переброситься на терема.
Пришлось оставить поиски и спешить на двор.
Могучий раскат грома вдруг сотряс землю. Толпа в ужасе шарахнулась в разные стороны. Огромный огненный столб вырвался из земли, застыл чудовищным факелом и метнул в багряное небо воз золотистых снопов.
— Знаменье Божие! — сообразили людишки, истово крестясь и сбиваясь беспомощным стадом. — Бог посетил нас!
Ещё стремительнее взмылся к небу второй вертящийся столб. С глухими стонами, треском и грохотом рухнули княжеские хоромы.
Выводков сорвал с себя шапку и с тоскою следил за пожарищем. Была минута, когда он готов был ринуться в пламя и спасти хоть что-нибудь из затейливого убранства палат, так кропотливо созданного его руками.
Его сердито окликнул Тешата:
— К людишкам! Замышляют противу нас! Дескать, Богом послан огненный столб!
Рубленник опомнился.
— Богом?
И неожиданно молодецки тряхнул головой.
— И сгори, будь ты проклято, умельство моё!
Он гордо пошёл навстречу зловеще притихшей толпе.
— Ты попутал! Всё ты! — зарычал кто-то, замахиваясь дрекольем.
— А коль ещё и в губе оные столбы сотворю? К коим катам в те поры кинетесь с покаянием?
Широко улыбнувшись, рубленник ловким ударом выбил дреколье из рук растерявшегося холопя.
— Сами мы с Серьгой да Илюнькой погреб той ставили тайной. А в погребу хоронил князь-боярин казну зелейную[52].
Он резко повернулся и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистнул.
Тешата с людишками подскочил к спасённому от пожара добру. Остальные, не раздумывая, жадно рванулись за ним.
Кучка холопей присосалась к бочонкам с вином.
— Прочь от хмельного! — топнул ногой староста. — Не за тем поспешали!
Озарённые свинцовым факелом пожарища, людишки поволокли к лесу добычу. Слабую от незаживших ран Клашу бережно нёс на руках Выводков.
У опушки холопи услышали сдержанное хрипенье.
— Никак, шутиха? — обрадовался Тешата и юркнул в кусты.
В его ноги ткнулась с заливчатым лаем горбунья.
— Спаситель ты мой!
— Ты, что ли, Дуня?
— Яз, родимый!
Шутиха поднялась и, приложив палец к губам, таинственно прищурилась.
— В дупле… пыхтит сермяжный наш… А боярыня с Марфенькой к городу побегли. Челом бить на вас.
Ночная мгла собиралась волокнисто-сизыми кудрями и клубилась над пробуждающейся землёй. Розовой улыбкой зари румянился восток. Из-за редеющего тумана проступала зелёная роспись зазвеневшего предутренней песнею леса. Склонившись над ручейком, ивы зачарованно любовались чудесной шёлковой шапочкой, расшитой золотом и чуть колеблющейся в слюдяной глади воды. Какой-то незримый затейник протянул от шапочки яркие паутинки, переплёл их заботливо и выткал шуршащий убрус.
Зашептались улыбчато ивы, чуя, что сейчас ласково прильнёт к их росистым ветвям и согреет девичьими поцелуями та, чья пышная колесница уже алеет на небосводе. Не зря же так весело и уверенно ткут для неё незримые хамовники рубиновую нитку убруса!
— Гей, вы, вольница вольная!
— Эге-гей, други беглые! — отозвались Тешате людишки.
— Болтает шутиха — князюшко близко!
Выводков ошалело бросился к сыну боярскому.
— Мне! Яз первый с ним за добро поквитаюсь!
Симеон, услышав голоса, с трудом протискал грузное тело своё сквозь дупло и скрылся в чаще.
— Не ко времени солнышко встало, — ткнул староста разочарованно ввысь кулаком. — Не понагрянули бы стрельцы!
Погнав впереди себя шутиху, он скрылся в берлоге, где в редкие минуты свободы тайно от своих вырезывал из дерева статую Клаши.
— Не ищи, — печально выдохнула горбунья, — сгорел истукан тот в огне.
Клаша чуть приоткрыла глаза.
— Кой ещё истукан?
Выводков не ответил и, понурившись, пошёл к своим.
— А горбунья? — всплеснул руками Тешата.
— Горбунья? — переспросил недоуменно рубленник и, подумав, с омерзением сплюнул. — Да ну её к ляду! К господарям, видно, ушла!
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Как в воду канули взбунтовавшиеся холопи. Стрельцы обшарили всю чащу лесную от вотчины Ряполовского до самого города, но никого не нашли.
Часть людишек, не примкнувших к погрому, до поры до времени содержалась при дворе Прозоровского.
Симеон в короткий срок осунулся, постарел и с каждым днём опускался всё более и более.
— Не смердова выдумка тут, — уныло спорил он с Арефьичем. — Не иначе, худородные соседи подбили людишек. Уж больно не по мысли им было могутство моё.
Прозоровский решил вступиться за друга. Вызвав в свою вотчину губного старосту и дьяков, он объявил, что задумал изоброчить детей боярских и других худородных дворян со всей губы денежным оброком в пользу разорённого князя.
Староста не возразил и, уезжая, поклонился покорно.
— Сила твоя. Токмо мы ни при чём в деле сём, господарь.
Арефьич разослал гонцов по округе.
— Будут хоромины, Афанасьевич, — не кручинься! — уверенно посулил он гостю.
Симеон подавил двумя пальцами нос и промычал что-то нечленораздельное.
Хозяин раздражённо ушёл из опочивальни, сильно прихлопнув дверью.
— Печёшься, кручинишься о человеке, а он токмо носом и тешится заместо того, чтобы словом да умишком своим подмогнуть!
С утра до ночи просиживал Ряполовский у оконца, отказываясь от трапезы и не вступая ни в какие беседы. Тяжёлая тоска и обида быстро подтачивали его силы, лишали покоя и сна. Больше всего мучило то, что стрельцы не изловили Выводкова, Тешату и Клашу.
Кажется, если бы привели их, он отказался бы и от денег, и от новых хором. Все знакомые способы пыток представлялись пустой забавой в сравнении с тем, что бы перенесли холопи, если бы только подвернулись ему.
Единственной радостью Симеона была мысль о мести. Уставившись маслено в одну, точку, он часто видел перед собой распластавшегося на земле рубленника.
— Язык подай, пёс! Язык, коим смердов мутил противу меня!
И, отставляя ногу, напруженно сжимал в воздухе пальцы, краснел и задыхался, точно в самом деле рвал из горла язык.
— А ты, девонька, покажи милость, откушай язычка того на добро здоровье!
Он захлёбывался от наслаждения, совал в рот девушке окровавленный ком и кланялся в пояс.
— Не побрезгай!
Хозяйский тиун прислушивался к сладострастному шёпоту, но, просунув голову в дверь, в суеверном ужасе бежал стремглав в самый дальний угол сеней, огораживая себя чертою в воздухе и заклинаниями.
Прозоровский вызывал спешно попа, чтобы помолиться за «бесноватого» и покропить заодно святой водой опочивальню.
К концу недели гонцы прискакали в вотчину с одинаковыми вестями.
— Сказывают худородные: не повинны они в том, что у князь-боярина тяжба с Тешатою.
Собравшись туго набитым трухою кулём, выслушал гонцов Ряполовский.
— Эвона что, — почти весело подмигнул он хозяину. — Выходит, есть ты боле не господарь, коли всяк смерд не страшится поперёк твоей воли идти.