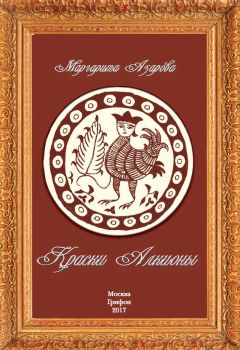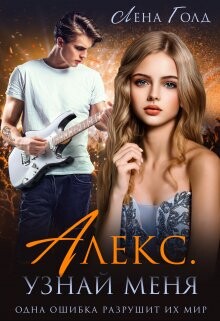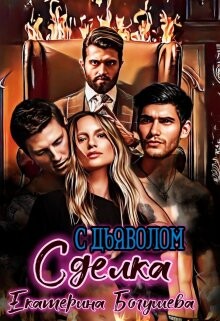Наследник из прошлого (СИ) - Чайка Дмитрий
— Как живется-то почтенный? — спросил я, когда остался в предбаннике один.
Староста испуганно оглянулся, выискивая поблизости егерей, и заученно пробарабанил.
— Все хорошо, ваша милость, дай господь бесконечных лет жизни нашим государям. Процветаем.
— Ты чего, отец? — я даже поперхнулся. — Я не егерь. Армейский я, из сирот выслужился.
— А чего тогда спрашиваешь? — зло посмотрел на меня староста. — Сам не знаешь, что ли? С артельщиков третью шкуру дерут. При императоре Святославе, говорят, десятину платили, а теперь четверть забирают! Да еще и подьячий из Брячиславля мзду требует… И на жатки цену опять подняли с косами… И на железо… А мимо мануфактуры государевой купить не моги! И вроде больше зерна растим, а дорожает все на глазах просто! И постоями воинскими разорили уже. А уж соль… Тьфу!
И он вышел из бани, от души хлопнув дверью. А ведь старосты зажиточными людьми всегда были. Странно…
Деревенька на пятнадцать дворов выглядела довольно уныло. Покосившиеся избы из почерневшего бревна, крытые соломой, риги и овины, куда легло после урожая зерно, да общий коровник, откуда доносилось одинокое мычание. Во дворах клевали травку немногочисленные куры и гуси, а вдалеке паслось стадо баранов голов на тридцать. Если и бедствовали здесь, то я видел и похуже. На десяток дворов пара коров и тридцать баранов… Немного, конечно. Здешних селян обстригают тщательно и со знанием дела, не давая ни подохнуть с голоду, ни сильно разжиреть. Впрочем, как я знал точно, налог в четверть от урожая — это лишь вершина айсберга. Кроме этого было множество неоплачиваемых повинностей, вроде того же постоя. Крестьяне давали лошадей, возили дрова начальству, содержали церковь и священника, чистили берега судоходных рек, чинили дороги… А еще они закупали по монопольным ценам соль, лошадей и инвентарь, прямо как я и завещал. И все это выливалось в суммы, куда большие, чем подать. М-да… Ну хоть не продают крестьян поштучно, разлучая семьи. У франков, говорят, уже к тому идет все. Там крепостное право достигнет пика веку к десятому, а лет через триста, когда потребуются рабочие руки в растущих городах, оно начнет понемногу отмирать. Здесь же в город отсылают установленное число парней и девок, и называется эта людская подать — лимит. А новые горожане — лимита. Вот черт! Это тоже я придумал. И ведь столько лет работает.
Плохо, скажете? Негуманно? Ну, провалитесь в прошлое и попробуйте сами. Не представительскую же демократию строить в Раннем Средневековье, среди людей, позавчера вылезших из леса. Тут ведь за государство почитается только Римская империя, и отказ от старых традиций порицается обществом на всех его этажах. А добавьте к этому полное отсутствие современной логики, магическое сознание населения и нулевую ценность человеческой жизни, как тут же сложится полная картина. На руинах родового строя вырос какой-то гибрид государственного феодализма по типу Древнего Египта и полугосударственного капитализма. Он никому не нравится, но продолжает жить, поскрипывая, пока прогресс или внешняя опасность не заставят изменить его на что-то иное. В Европе это сделал зарождающийся капитализм и пороховая революция в придачу. Порох уравнял на поле боя вчерашнего крестьянина и рыцаря, которого с трех лет учили убивать людей холодным оружием. Дворяне стали не нужны и превратились в офицеров и чиновников, как в Германии. Или в беспринципных торгашей, как в Англии… Или в бесполезных паразитов, как в Российской империи…
— Боярин! Боярин! — от грустных мыслей меня отвлекла крестьянская молодуха лет шестнадцати, которая теребила меня за рукав. — Потешиться после баньки? А? Гривенник возьму всего!
Приятная такая девчонка, крепенькая, пышная в нужных местах. Улыбается белозубо. Сама чернявая, с нежной, чистой кожей, видно, кровь римлян из Дакии сказывается. Их много в эти земли переселили. Хорошенькая до того, аж в груди защемило что-то. Или показалось мне по молодому делу… Она же замужем, скорее всего…
— Да не надо мне, — отчего-то я смутился, как мальчишка. Может быть, потому, что я и был мальчишкой? Вон как кровь в лицо бросилась.
— А ты красивый, — сказала вдруг она, погладила меня по щеке и погрустнела. — Шрам только. Мне вот без мужика совсем тоскливо. Мой-то по весне от лихоманки сгорел. Не надо денег, пойдем так. Тут сеновал недалеко. Свекор прибьет, конечно, если узнает, да и пусть… И так как рабыня на него горбачусь.
Красивый? Я? Да я даже не знаю толком, как выгляжу. Отражение в ведре с водой не в счет. Зеркала по-прежнему невероятно дороги, они делаются на казенной мануфактуре в Братиславе. А небольшой городок на острове Мурано, где попробовали изготовить что-то подобное, десант морской пехоты чуть не стер с лица земли. Я это на базаре слышал. А может, я в маму удался? Не зря ведь на нее великий князь запал, и меня законным сыном объявить решил. В общем, пошел я с девчонкой на сеновал, и ни капли не пожалел. И четвертак потом не пожалел, не то что гривенник. Все-таки у молодости есть свои преимущества, искупающие недостаток денег.
В Братиславе мы оказались через пару недель. Егеря шли ходко, без особенных задержек, как будто скоропортящийся товар везли. Посады, Новый город и Белый город мы проскочили рысью, так, что даже почтенная публика, в последнем проживающая, испуганно прижималась к стенам и провожала нашу кавалькаду задумчивым взглядом.
А тут многое изменилось. Старых домов на главной улице осталось немного, их по большей части сломали, объединив по два, и по три владения. Новые строения домами назвать не поворачивался язык. Скорее, это были дворцы, не уступающие по размеру тому, в котором я жил раньше. А вот украшены они были куда богаче. Видимо, проблем с деньгами у их хозяев не наблюдалось. Площади и скверы, разбитые при мне, остались на месте, лишь кое-где поставили памятники из бронзы и мрамора. Интересно, кому эти памятники. Надписей на них я не разглядел, а опознать в лицо тех, кто родился после моей смерти нечего и думать. Фонтан! Тут есть фонтан! Неужели смогли воду поднять на гору? Но как? Наверное, колесом, больше и нечем. Или все же акведук провели, как я мечтал когда-то?
Если выехали на улицу Большую, значит, мы прямиком направляемся в… Да, сердце не обмануло, мы скакали прямо в цитадель. Взводный егерей поднял руку в приветствии, и хорутанин отворил створку. Жидковат что-то стражник. Неужели нормативы для дворцовой гвардии отменили? И брони не носит. Напротив, несет караул в каких-то нелепых рейтузах, цветной куртке и в берете со страусиным пером. А вместо копья — нечто, похожее на алебарду, если к этому оружию применимо слово «изящный». Да, алебарда дворцового гвардейца была скорее изящной, чем смертоносной, а это значит, что на жизнь императора и цезаря покушались так давно, что охрана стала чисто символической. Интересно, это хорошо или плохо? Будем разбираться…
Дворец… Большую часть цитадели занимал дворец. И он оказался такого размера, что мой старый служил теперь лишь пристройкой к нему, скромным флигелем. Архитектура за прошедшие столетия поменялась несильно. Все тот же камень, переложенный полосами кирпича, арочные окна и массивная колоннада у входа. Так строят уже лет пятьсот, и нет причин что-то менять. Стиль «Поздняя империя», когда ушли в небытие резные коринфские капители, а в моду вошла основательность и суровая надежность. Только вот обычные стекла заменили на витражи, что выглядит довольно аляповато. Рисунка особенного нет, просто разноцветные беспорядочные брызги, заделанные в переплет. Жлобство, на мой взгляд… Мы проходим мимо парадных дверей. Куда же меня ведут? Да ладно? В мой старый дворец?
Смиренный инок, князь-епископ Яромир II разглядывал невысокого жилистого парня с куцым хвостом на бритой голове и невероятно роскошной гривной на тощей шее. Мальчишка носил застиранную рубаху лимитанта с новенькими лейтенантскими погонами, пояс с серебряными бляхами, явно снятый с какого-то степняка, и мягкие сапоги кочевника. Вида он был самого затрапезного, такого, что пригласи его на бал, это станет событием года. В плохом смысле. Ведь офицеры гвардейских легионов всегда одеты с иголочки, и они разбивают женские сердца с умением, достойным применения куда лучшего. Ей-богу, лучше бы на коне копьем так умело работали, как в чужой спальне, и совершенно другим орудием. Тут князь-епископ поморщился. Гвардейские легионы теперь лишь тень от того, что было во времена Александра и Мечислава. Офицеры месяцами не бывают в части, отдыхая в собственных имениях. Лет за пять после Сотни многие из них прочно забывают военную науку ввиду полнейшей ненадобности. Большой войны не было почти сто лет, а мелкие пограничные стычки отражают части лимитантов. Точнее, отражали… Падение замка на Раховском перевале — сущий кошмар, который еще аукнется империи большой кровью. Уж это князь-епископ понимал как никто другой, ведь он по совместительству являлся и главой Ордена кроткой святой Ванды-миротворицы, да славится ее имя в веках.
![Андрей Васильев - Снисхождение. Том первый [СИ]](/uploads/posts/books/271277/271277.jpg)