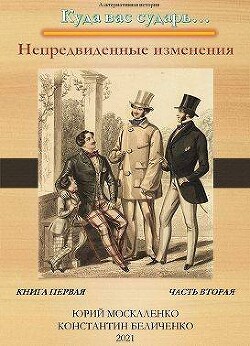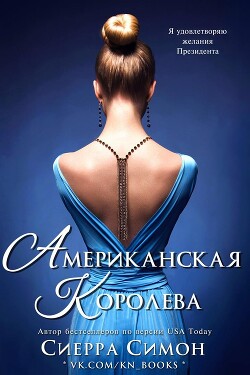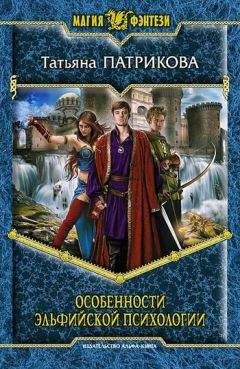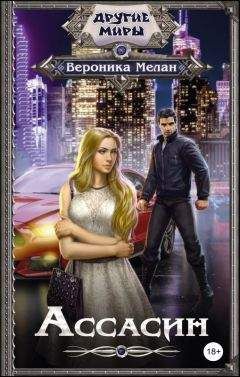Картограф (СИ) - Москаленко Юрий "Мюн"
– Э, нет! – возразил мне командир геодезистов. – Точность, она нужна! Точность – это для карты первое дело! Мы, если знать хотите, мы с Алексеем каждую сажень промеряем. Да что сажень?! Каждый аршин! Вот так вот, господин пластун! Это Вам не абы что! Это географические чертежи!
Да. Действительно! Как же это я сам не подумал? Он ещё забыл добавить, что по их картам ракеты наводить можно.
– Елизарыч! Родной! Да как же ты на обзорной карте свои аршины изображать-то будешь? Иголкой что ли? А смотреть потом как? В микроскоп?
Я и вправду с радостью бы понаблюдал, как он на двухкилометровом масштабе, где в каждом миллиметре почти по триста этих самых аршинов, хотя бы десяток отмерять будет.
– Ладно, – произнёс я, поднимая свой глиняный сосуд. – Давайте, греть не будем. Выпьем, а потом вы мне наглядно про точность объясните.
Геодезисты согласились, мы чокнулись, опрокинули по «рюмашке», закусили, и я достал свою карту. Только бы заурядные господа её какой-нибудь фигнёй не залили, типа рассола от квашеной капусты или мочёных яблок.
Расстелив «чертёж» Самарского уезда на свободном клочке стола, я предложил поручику продемонстрировать ту самую точность, о которой он столько радел:
– Давай, Роман Елизарыч, покажи какую территорию отрисовывать собираешься? Откуда до куда? И на листе какого размера потом будешь это всё хозяйство изображать?
Старинов сначала попробовал развернуть карту к себе, но стоящая на столе утварь сильно мешала его затее. Я решил посодействовать мудрым советом:
– Да ты вот сюда иди садись. Тут удобнее будет.
Поручик пересел ко мне поближе.
– Где у тебя тут Нурлатынский острог? – поинтересовался он после двухминутного изучения карты.
С этим я помочь ему не мог, потому что про существование данного острога раньше даже не слышал. Вот вообще ничего. И никогда. И ни от кого. Он первый, кто произносит это название.
Я пожал плечами:
– Звиняйте, вашзрятство, впервые слышу о существовании объекта с подобным наименованием. И рад бы сообщить Вам хоть какие-нибудь сведения о нём, да нечего.
– Скверно! – коротко охарактеризовал сложившуюся ситуацию поручик. – А Буродольский острог где?
Этого я, конечно же, тоже знать никак не мог.
– Даже предположить не берусь. Посещать оный ни разу не доводилось, – честно признался я. – Правильнее будет сказать, что я вообще неместный. Так, мимо случайно проходил, а тут вы со своими острогами.
Подпоручика Алёшеньку мой ответ ужасно позабавил:
– Ну, знаешь! – весело воскликнул он. – Остроги посещать по-разному можно. Можно в гарнизоне послужить, а можно и в порубе посидеть. Так что ещё неизвестно, хорошо ли это, что ты остроги-то допрежь не посещал.
Блин! Где я там сидел, это, прямо скажем, не его дело. Можно даже добавить «собачье». А вот то, что в здешний этот… поруб, который в остроге, мне не хочется от слова «ВАЩПЕ», тут… короче, тоже не его дело. В особенности, за что меня туда могут упечь.
Старинов тем временем продолжал пялиться в карту:
– Вот Самара… вот Красный Яр… – бормотал он, констатируя свои открытия. – Суходол какой-то… а Буродол где? Может сюда? Отрадный? Это что? Острог что ли Отрадный?
Последний вопрос он адресовал мне. Я снова пожал плечами. Не дождавшись ответа, поручик продолжил поиски интересовавшего его острога.
Скорее всего, не найдёт. Вряд ли на карте конца двадцатого века, а тем более начала двадцать первого отображались остроги. Очень вряд ли.
– Бугуруслан какой-то… так… а сюда если? Ох, ты! Богатое! Богато живут, наверное. Вот жаль, что нам нынче не туда, а то, глядишь, и мы бы разбогатели! А рядом Коноваловка. Понятно, почему они там все богатые!
Поручик откинулся, смеясь над собственной шуткой, а Алёшенька, видимо тоже желая повеселиться, вскочил с места и с возгласом: «Ну-ка, где?», чуть не опрокинул мяску с капустой. Я уже успел испугаться за карту, но обошлось.
– Смотри-ка! Палимовка! – удивился возобновивший изучение местности Роман Елизарович. – А почему она здесь? Бузулук какой-то… Ничего не понимаю.
Он еще поводил по листу пальцем, а потом посмотрел на меня и спросил:
– Андрей, а почему вот эта дорога чёрная?
Она железная, а чугун и даже сталь, из которой, собственно, и делают рельсы, это продукты чёрной металлургии. Ну и, каким цветом рисовать дорогу из чёрных металлов? И, кстати, а паровоз у нас в каком веке изобрели? Наверное, не в этом. Да если бы даже и в этом, то всё равно такой разветвлённой сети железных дорог тут существовать ещё не могло. Так что вряд ли стоит господам заурядным офицерам сообщать всю правду.
– Не знаю, Роман Елизарыч, – «сокрушённо» вздохнул я. – Сам так и не разобрался.
– Плохая у тебя карта! – вдруг заявил поручик. – Вон смотри сколько всего понарисовано. Надо, не надо, а оно есть. И что? А главного… главного нет. Где остроги? Хоть один покажи! Нету! Леса – какие-то зелёные пятна, гор вообще нет. Мост через Волгу! Это же уму не постижимо! Ну, какой мост? Скажи на милость, какой мост? А острогов ни одного!
Он разочарованно выдохнул, и продолжил хаять мою карту:
– Нет, Андрей, это не чертёж, а лубочная картинка. Уж не знаю, какие масоны его составляли, но пользы от неё – кот наплакал, да и того, поди, нет.
Он снова откинулся, а Алёшка, воспользовавшись моментом, изъял у него изделие Роскартографии для самостоятельного изучения.
Я не стал себя пяткой в грудь бить и рубиться за точность «масонской» карты, просто предложил повнимательней к ней отнестись, заметив, что вряд ли он – Старинов – знает названия всех деревень Самарского уезда.
И чуть не засыпался, сказав, что, судя по надписям, её серьёзная контора клепала, ткнув в доказательство пальцем в аббревиатуру СВ АГП, которая расшифровывалась, если я сейчас ничего не вру, как «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие». Хорошо ещё вслух этого не успел сказать.
Подпоручик пьяный, пьяный, а год выпуска прочитать всё-таки сумел, и вот тут я, по совести сказать, завис основательно.
– Дак она ж старая! – выпалил он. – Пятьсот лет назад составляли. А ты говоришь точная. Да с чего ей точной-то быть, коли ей пять веков?
Я уставился на выходные данные: там русским по белому значилось, что для издания была использована картографическая основа тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года. Ну, да, старая, но не пятьсот же лет. Или Алёшка спьяну обсчитался, или это я чего-то не понимаю. Значит, пришло время глупых вопросов.
Чтобы поддатому человеку задавать «глупые» вопросы, нужно прикинуться ещё более пьяным, чем он, вот тогда если он даже что-нибудь и заподозрит, то потом всегда отбрехаться можно. Я предложил для ясности ума выпить ещё по одной. Выпили.
– Чёй-то она старая? – закусывая квашеной капустой, спросил я подпоручика.
– Потому что вот! Пятьсот лет ей, понял? – ответил мне тот.
Старинов забрал у него карту для детального ознакомления с выходными данным.
– Пятьсот одиннадцать лет ей, потому и старая! – сообщил ещё более пьяный, чем мы с поручиком Алёшенька.
– Пятьсот девять, балда! – поправил Старинов. – Считать не умеешь! – потом повернулся ко мне и, по всей видимости, ища во мне поддержки, спросил: – Сейчас какой год?
Я попытался выглядеть осоловевшим и в свою очередь поинтересовался у подпоручика:
– А какой сегодня год? Вчера пятница была… а сегодня какой?
Тот некоторое время тупо смотрел на меня, наверное, не понимал, как можно забыть год, в котором живёшь, но потом всё же выдавил из себя:
– Две тыщи чи-ты-ри-ста ди-вя-носто сидьмой.
Ни хрена себе! Так я, что, не в прошлое попал, а в будущее, что ли? Странненький тут у них постапокалипсис, странненький! Неожиданный такой!
Стоп! А мосты тогда куда подевались? А дороги! Не могло же всё это сгинуть совсем без следа.
– Ат раждиства х-хри-стова? – стараясь выглядеть поневменяемей, уточнил я.
– Чи-во-о-о??? – поручик удивился сильнее, чем я ожидал.