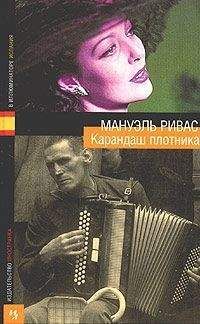В. Бирюк - Найм
Не мой случай. Ни на чемпиона-стендовика, ни на Джеймса Бонда — я по здешней местности не тяну. «Лютый Зверь», «Лютый Зверь»… тьфу, мартышка бесхвостая… Не знает меня народ, не уважает. От прозвания моего — не вздрагивает, малых детушек именем моим — не пугивает. Нечего расстраиваться — будем работать над популяризацией образа дальше. Будем «попадать во всё что было». Чтобы всё — «сходило с ума». Имиджмейкериться и пиариться. Надо собственный авторитет зарабатывать. А то я ведь ни с кем из здешних… «авторитетов» не сидел. Даже у походного костра.
Хозяйка, тем временем, затараторила скороговоркой:
— Не слыхивали, и слыхивать нам не надобно, а люди попусту кабы как не назовут, а уж коль назвали… сына свого не дам, чтобы дитятко роженое, единственное, кровиночку да в невесть куда да вот такому… которого зверем прозывают… да нешто я своему дитяти злой участи… нет уж, и разговоров разговаривать не надобно и пошли бы вы, люди добрые со двора бы, потихонечку, по-добру, стало быть, по-здорову… и на том, с божьей помощью, и делу конец положился…
Эх, тётя, кабы я такой «конец положился» — не предвидел, и чего дальше будет — не придумал, так стал бы я свои рёбра — «лётному бычаре» подставлять?
«Конец положить» — не каждому удаётся. Тут и навык, и познания нужны. А то масса народа так и не различает — когда слово «ананас» нужно писать слитно, а когда раздельно. «Папа купил соседской тёте ананас, а на нас… положил». Как тут с этим делом? В смысле — с «ананасом»? И кто что куда «положил»? Сейчас проверим.
— Да мы-то пойдём. И его с собой возьмём. Морковку эту красномордую.
Я кивнул на связанного «морковного юмориста». Баба с изумлением посмотрела на меня, потом перевела взгляд на своего любовника. Тот ответил ей аналогичным, ничего не понимающим взглядом.
— Как это? Кудой-то?
— Так это. Тудой-то. На посадников двор, на почестный суд. К вирнику в застенок. Под кнут, на дыбу, в щипцы калёные… Дело о татьбе, однако. Душегубство и смертоубийство.
— Ой! Страсти-то какие! А… А его-то чего?!
— А того. Сей человек пытался меня убить. За сегодня — аж четыре раза. Два последних — на твоём дворе. Не единожды в желаниях этих громко сознавался, так что многие свидетели тому есть. И лишь промысел божий злоумышленнику в той татьбе воспрепятствовал. Однако ж ущерб немалый нанесён. У меня, у боярича, у честного отпрыска славного смоленского сотника, который с самим Великим Князем Киевским с одного котла хлебал, во многих тяжких службах бывал, от мечей ворогов да супостатов грудью храбро защищал… Так вот, у меня от сего разбоя да безобразий грудь вся — поломанная.
Они что, думают, что я по ихнему выть не могу? Да я ж такой переимчивый! Бывало, пока поездами до Питера доберусь — по три раза за день акцент поменяю. Работаем «вой ритуально-отпевально-маломузыкальный». Монархически-патриотически-православный. Исполняется впервые.
— Не ходити мне, добру молодцу, вслед родителя моего достославного, в службу княжеску, государеву. Не закрыть мне князя нашего светлого, добра князя-то Роман свет Ростиславовича от злодеев окаяниившихся. Не принять-то мне на грудь молодецкую ой да злой удар в княжью голову. В том ли в бою кровавом, гибельном, посередь-то сечи лихой, яростной. Ой да не сберечь мне красно солнышко от лихих врагов, от мечей их вострых да стрел калёных. Не ширяться мне сизым кречетом по поднебесию, не метаться серым волком по редколесию, не ныряться-то мне золотым карасём да позаплесию. Ой да, не сложить мне буйну голову, ой да за землю-то нашу русскую, ой да за веру-то нашу православную, ой да за князя-то нашего, ясна сокола. Ой, придёт-прибежит жаль-кручинушка, разольётся по земле беда горькая. Налетят-то на Русь злые вороны, злые вороны чужедальные. Ой да закроет вороньё солнце ясное, ой да покроет вороньё нивы с пажитями. Будут вОроны род людской клевать-расклёвывать, пред ворОн своих — куском хвастаться. А во всём-то в том — всё его вина, в воровском-то всё его злодеянии.
Чистая психоделика. Завывание с намеканием. «А на что? про что? — самим сведомо». Эх, музона нема. Мне б сюда дуриста с соплистом. Чтоб один — на бандуре, а другой — на сопелке. И барабан бы так… монотонно и глухо — бум, бум. Надо искать. Хоть каких лабухов, но — надо.
Что-то я ещё не сказал… Ах, да: «мать сыра земля» и «волчья сыть — травяной мешок». Ладно, оставим на следующую загрузку. Когда в следующий раз буду аборигенов грузить. Ихней словесно-музыкальной символикой. Я же говорил: инженерия — это постоянно туда-сюда, от сущностей к символам и обратно.
Туземцы смотрели на меня, разинув рты. Потом баба несколько подозрительно взглянула на своего любовника и осторожно отодвинулась. «Бычий гейзер» сморгнул, сглотнул и попытался возразить:
— Дык… Эта… Ты чего? Я ж ничего… ну…
«Сидят мужики в чане с дерьмом. Хорошо сидят — по самые ноздри. Один не выдержал, кричать начал:
— Да сколько ж это может продолжаться?! Да когда ж это кончиться?!
А ему соседи в ответ:
— Тсс… Тихо… Дерьмо колышется».
Ты, «воздухоплавательный бычара», уже по самые ноздри попал. Теперь сиди тихо, не кукарекай.
— Вот ещё: человек мой сидит-страдает. Из первейших в доме моём людей — письмоводитель и по торговым делам главный приказчик — Николай. Тать сей Николая — ломал, на землю — сбивал, по нему — топтал. От того у Николая болезнь по всему телу приключилася. А может, защити нас господи Иисусе от напастей, и помрёт Николай от увечий полученных. Так что, берём мы этого мужика, который по честнОй вдовы подворью мало что не голым шляется да на прохожих людей кидается, да ведём к Спиридону-мятельнику. Который, по нынешним временам в городе здешнем — главный. Вот Спиридон-то и порасспросит татя: за что хотел боярича Ивана Рябину убить, почему целый день за отроком юным по всему городу гонялся, и нет ли в том каких иных смыслов да замыслов. Мести, к примеру, прежних ворогов злых славному сотнику Акиму Яновичу Рябине за прежние службы да за заботы евоные об славном князь-государе евоном, ныне Великом Князе Киевском нашем. И нет ли за сим татем каких ещё дел разбойных, доныне не открывшихся.
— Да чего он несёт?! Да нету за мной никаких дел! Вот те крест святой! Да ты что — меня не знаешь?! Ну, горяч бываю. Ну тебе ж самой это любо. На постели-то.
Вдова резко засмущалась, подскочила, начала махать на «бычару» руками.
— Ой, да что ты такое говоришь! Срам-то какой! Перед чужими людьми! Да как же можно же эдак опозорить-то…
Не ребята, чисто этика с эстетикой — мало будет. Стыд — хорошая «упряжь». И здесь, и в 19 веке:
«Да только стыд страшит
И держит всех в узде».
Там, вообще-то «смех». Но по поводу «стыдного». Тогда и это помогало. Только я — из 21 века, из времён бесстыдных. Мне другая «погонялка» привычнее — страх. Страх физической смерти, страх физических мучений. Кстати, мой прокол — насчёт стыда даже не подумал. Может, этим и обойтись можно было бы? Мало знаю, не могу адекватно соотнести моральные приоритеты аборигенов. Тщательнее надо, Ванюша. А пока — по домашней заготовке, уголовно-процессуально:
— Э, хозяйка, это-то — не позор. Позор будет, когда дружка твоего сердешного на дыбу вздёрнут да железом горячим по рёбрышкам пройдутся. Для памяти освежения. А ну как он, по полаческой-то просьбе, вспомнит. Что мужа твоего покойного он, по молению твоему слёзному, под лёд уронил? А что? Вы с мужем-покойничком жили худо — про то весь город знает. Или что ты в мужнином лечении какое небрежение свершила? И про то — полюбовничку хвастала. Как бы тебе самой… по самую шею живой да в сырую землю… Нынче-то не холодно — помирать долго будешь, помучаешься.
— Лжа!!! Поклёп гадинский!!!
Женщина выкрикнула мне это в лицо, рванулась, выставив вперёд руки, ко мне. Схватить за грудки, заставить замолчать, вбить сказанное обратно… И остановилась, налетев на шагнувшего её навстречу Ноготка.
— Да как же ж это… лжа же всё… да я-то этого и вблизь не пускала… пока муж живой был… я же всё по-честному… ночей не спала… нет моей вины… болел он сильно… воля божья…
— Это ты не мне — это ты ему говори. Покажет он на тебя под пыткой — и ты рядом на дыбе висеть будешь. Вытерпит муки… ты себе вскоре на постель нового приведёшь, с другим — играться-миловаться будешь, а его вон — землёй сырой закроют. И это бы лучше — целым ему из застенка не уйти. А калекой жить…
Я ткнул рукой в сторону связанной «морковки». Женщина, испуганная, ошеломлённая возможными последствиями явной, на её взгляд, клеветы, растерянно посмотрела на своего любовника.
Наглая ложь и клевета. Гнусные подозрения, порочащие честь и достоинство. Очень даже может быть. Только — «правда у бога». А мы — не боги, мы прах земной, грязь и мерзость. И думают люди соответственно: грязно и мерзко. На основании чего и принимают судебные решения, выносят вердикты и исполняют приговоры.