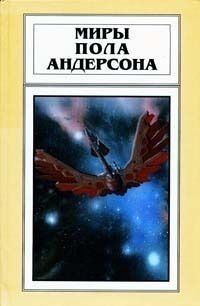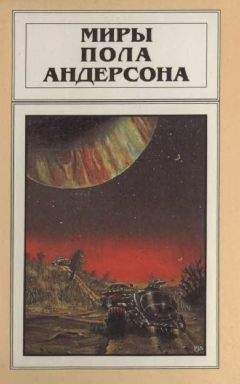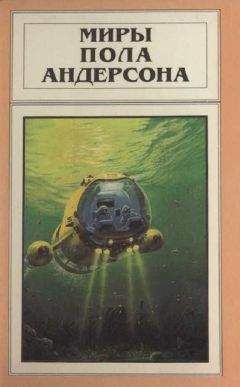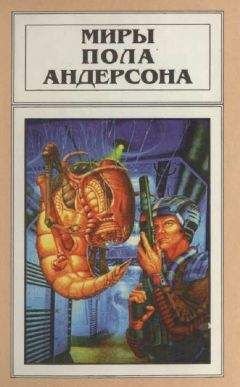Андрей Посняков - Король
– А, вот вы! – увидав знакомцев, радостно потер руки Григорий. – Идемте, Паисию-иноку вас покажу. Он добро дал.
Инок Паисий оказался высоченным и чрезвычайно сутулым стариком с длинной седой бородой и сверкающим, прямо-таки огненным взором. Орлиный нос, исхудавшее почти до полной дистрофии лицо с ввалившимися щеками и запавшими глазами, длинная черная ряса, подпоясанная простою веревкою, сверкающий медный крест на груди. В правой руке – страннический посох, больше похожий на простую суковатую палку. На вид – довольно увесистый, таким ка-ак дашь… Мало не покажется!
– Вот, иноче, путники, о которых я говорил, – поклонился лоцман. – Благослови, отче.
Все трое – Арцыбашев, Михутря и Санька (мелких отроцев Михутря отшил еще у причала) – разом поклонились, по очереди приложившись к протянутой руке инока.
Старец окатил беглецов строгим пронзительным взглядом и неожиданно улыбнулся:
– Похвально, похвально, братие. Любо и мне, и Господу нашему, и всем святым, что светские люди, как вы или вот Гриша, дела свои бросив, к пресветлому образу Святой Богоматери Тихвинской поклониться идете.
– Денно и нощно о том и молим, отче, – разбойный капитан расплылся в улыбке. – Лишь бы дойти. Припасть бы!
– Дойдете, – благословил инок. – А что молитесь – так это правильно. Нешто без молитвы можно? Отрока с собой младого взяли – и это правильно тож. К такой святыне приложитися, благословения испросить – многим ли дано? Молить за тебя буду, отроче… Как звать-то?
– Агра… Санька… – еле слышно пролепетала гулящая.
Вся ее наглость при встрече со старцем вдруг испарилась, растаяла, как последний апрельский снег перед припозднившейся Пасхою. Девчонка покраснела, словно натворила что-то такое, чего обязательно надо было стыдиться… Так ведь так оно и было!
– Голосок-то у тебя звонкий, Олександр, – ласково промолвил Паисий. – В хоре при церкви какой поешь ли?
– Не, отче, не сподобила… не сподобился.
– Зря. По пути будем Господа славить – и ты подходи, чадо. Коль не умеешь петь, так научим. Благословляю тя!
Аграфена рухнула на колени, и старец торжественно возложил руки на ее чело. Губы гулящей дрожали мелкой дрожью, жемчужно-серые очи враз потеряли обычное свое бесстыдство, а по щекам градом лились крупные прозрачные слезы.
Провожая паломников в дальний путь, били колокола Святой Софии, истекали малиновым, греющим души, звоном. Провожаемые почти всем софийским клиром, оставшимся в живых после погрома, возглавляемая иноком Паисием процессия торжественно спустилась к пристани и без всякой сутолоки перешла по узеньким шатким мосткам на большой баркас с двумя мачтами.
– Сначала на лодье чуток, потом – по тракту, – важно объяснял паломникам тихвинский лоцман Толмачев. – В погост Липно зайдем, помолимся, а там и до обители недалеко, до Тихвина. Собор тамошний, Успенский, еще государем Васильем, отцом царя-батюшки нашего, выстроен. По его приказу. А лет десять назад… а, пожалуй, и больше, государь наш Иван Васильевич милостию своей повелел близ собора с иконою большой мужской монастырь заложити. Хорош монастырь, крепок, и храмы там, и стены белокаменны – любо-дорого посмотреть! И посад монастырский неплох – больше сотни дворов да полсотни лавок! Церкви деревянные, площадь торговая. И ярмарка знаменитая! Чего только на той ярмарке не увидишь! И пути торговые все к Тихвину сходятся – и по воде, через реки да Нево-озеро в море Свейское, и по суше – в Новгород, в Архангельск, в Вологду. Ну, и в Москву тракт наипервейший.
Расхваливал лоцман родной свой посад, лил в уши воду – да только вот не слушал его почти никто. Кто молился, кто на берег смотрел да махал рукою знакомым. Михутря позевывал – он и так посад тихвинский прекрасно знал, а притихшая после общения со святым старцем Аграфена-Санька кого-то внимательно высматривала в толпе да украдкой вздыхала. То ли сожалела о своей греховодности, то ли еще чего. Девичью мятущуюся душу уж никто никогда не поймет и до конца не разгадает.
Плыли недолго, вскорости высадились на берег, вышли на тракт, провожая взглядами баркас, с южным попутным ветром идущий дальше, к Ладоге, по торговым делам. Отсель уже путь к Тихвину лежал посуху.
К удивлению Леонида-Магнуса, дорога оказалась вовсе даже неплохой, твердой, почти совсем от дождей не размокшей, а местами даже подсыпанной песком да щебнем. Видать, холили дорожку, лелеяли, не считаясь ни с какими тратами – важный был путь, и для паломничества, и для торговлишки. Что иногда и государев двор выделял, так то ярыжки царские воровать не смели – Богоматери опасаясь. Это вам не двадцать первый век, где бесстыдные да бессовестные у власти трутся да себе любимым добро наживают, о других людях вовсе не думая. Оттого и грязь кругом и дорог почти нет. Потому что забыли Господа, безбожники, атеисты чертовы. Семьи они свои кормят… воронят вороватых, жадных, бессовестных! Бога не боятся – на что, интересно, надеются? На том-то свете денежки не нужны. Ужо погодите… Ужо!
Ближе к вечеру остановились на ночлег в придорожной харчевне. Все полсотни паломников в гостевую избу не влезли, да и не стремились – чай, ныне у них забота другая, не тело грешное ублажать, но – душу бессмертную! Кто во дворе, у возов приткнулся, а кто и неподалеку, в поле, костры разложил, шалаши устроил. Там и Паисий-инок святой, народ на пение богоугодное собрал, разложил псалтырь…
Про Саньку старец тоже не позабыл, нашел у костра, привел за руку, со прочими в един ряд поставил – пой, мол, коли голосом Господь уподобил. Собралися, приготовились… Паисий посох в руку взял, поднял… Грянули!
– Господа-а-а ныне славим, братие-е-е…
Хорошо пели, стройно, благостно. И Санькин – Аграфенин – голос в общем хоре достойно звучал, звонко. Слова девка не знала, да на лету подхватывала, подтягивала, подпевала…
– Иже прииде Бог наш единосущны-ы-ы-й!
Волосы темно-рыжие на самые глаза падали, и не было в очах тех ни бесстыдства, ни наглости. Одна вера, и еще – затаенная боль. Боль, о которой Графена никогда и никому не рассказывала. А потом, уже после, тогда как кончили молитву и пение, убежала девчонка в лес, повалилась лицом в пожухлую осеннюю траву и долго-долго рыдала. От пения ли, от слез или от покаяния, а только сделалось ей вдруг легко-легко, так легко, как никогда еще не было.
По хорошей дороге и шлось хорошо, ходко, да еще с молитвами, с песнопениями. До Богородичного монастыря, до посада Тихвинского, обычно неделю шагали, ну а тут могли и за шесть ден дойти – запросто. Если по двенадцати верст в день идти. Все свои припасы за спиной несли в узелках, в котомочках. С ближними последними припасами делились, да еще кое-что встречные гости-купцы подавали, ну – и сердобольные, по погостам, по деревням. Кто яичек куриных лукошко, кто корзинку орехов, а кто и сальца кусок изрядный.
Паисий-инок трапезу всю благословлял – в пути трудном, как на войне, постных дней нет!
Шмат сала и девять вареных яиц как раз и принес как-то Михутря с общего дележа. Еще и хлебца прихватил краюху, вкусный хлебец-от, с погоста Липно. Покушали, водицею из ручья запили. Саньку тоже не обидели – кушай, дева, да – тсс!!! – язык на замке держи, не дай бог, прознает кто – позору не оберешься.
С утра девять яиц было, к вечеру осталось одно. Два Магнус съел, два – Михутря, и столько же – Санька. Всего шесть получается. А было – девять. Спрашивается, куда еще два яйца девались? Михутря сказал, что не ел, да и сам Арцыбашев про себя знал то же. Выходит – Санька. Да и ладно. Не жалко, пущай наедается. Ладно, яйца – так ведь и сала кусок так быстро ушел, что…
Если Санька – то ладно, а вдруг – чужой кто? Нет, попросил бы, оно понятно – дали б. Зачем тайком брать, воровать зачем? Вот вопрос в чем!
Продукты приятели хранили в заплечном мешке, который несли по очереди – полдня король, полдня – капитан, девчонку не напрягали. А уж потом, отдыхая, оставляли мешок то у ручья, то у сосны тенистой, а иногда и в какой-нибудь харчевне на лавке. Там, видно, вор и…
Ничего не сказав своим спутникам, Леонид решил лично выследить вора. Незнание король посчитал опасным. Сегодня ворует, а завтра возьмет и донос напишет! Разговоры подслушает, донесет… Вот и решил разобраться, а не сказал своим, потому как опасался – вдруг да воровка – Аграфена-Санька? Михутря к ней и так не очень-то расположен, а уж как узнает… Со свету девку, конечно, не сживет, но прогонит – точно.
Очередную порцию продуктов составили все те же яйца, сало да еще жареная щука и с полкило ржаных сухарей. Щуку страпезничали сразу же, да потом весь вечер похрустывали сухарями, а после молитвы хозяин харчевни от щедрот одарил всех трапезой. Квашеная капуста, грибы, ушица. Покушали всласть, поблагодарили Господа да разбрелись спать, кому куда назначено. Беглецам выпало – в баньке. Той хорошо, все ж не на улице, да и покойно, тихо, а самое главное, тепло – баньку, видать, не столь уж давно топили, и еще оставался на камнях и в досках теплый дымный дух.