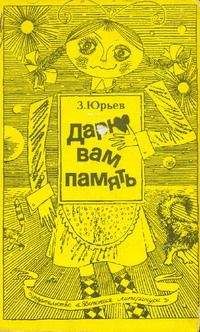Уорд Мур - Дарю вам праздник
— Ходж…
Она пришла на редкость точно; то был, наверное, добрый знак. Надежда горела во мне.
— Тирза, я тебя видел сегодня…
— Ну да? А я думала, ты так увлечен беседой со своим черномазым, что не видишь ничего вокруг.
— Зачем ты так его называешь? Думаешь…
— Ради бога, не надо нотаций. Я назвала его черномазым, потому что это звучит лучше, чем черножопый.
О моя решимость смотреть на мир глазами любимой, где ты?
— Я называю его мсье Энфанден, потому что его зовут именно так.
— У тебя есть хоть какое-то чувство собственного достоинства? Похоже, что нет. Странные же у тебя манеры, Ходж! Я еще могу примириться с подобными выходками, но другие вряд ли их поймут. Как ты думаешь, что сказала миссис Смит?
— Я не знаком с этой дамой. Откуда мне знать?
— Зато я знаю — и я с ней согласна. Тебе понравилось бы, если б у меня ходил в приятелях голый людоед с кольцом в носу?
— Но у Энфандена нет кольца в носу, и ты сама видела, что он вполне одет. Возможно, он тайком и ест миссионеров, но это не может оскорблять миссис Смит, ибо выглядит он вполне пристойно.
— Я говорю серьезно, Ходж.
— Я тоже. Энфанден — мой единственный друг.
— Может, ты и выше приличий и правил хорошего тона, но я — нет. Если ты еще хоть раз покажешься с ним на людях, сюда можешь больше не приходить. Я не стану общаться с тобой.
— Но, Тирза… — беспомощно начал я, ошеломленный полной невозможностью отыскать какой-то компромисс с ее несообразной позицией. — Тирза, но…
— Нет, — твердо сказала она, — тебе пора взрослеть, Ходж, и кончать с этими детскими фортелями. Единственный друг, подумать только! Да ведь если б он сейчас тут появился, ты бы, наверное, заговорил с ним!
— Ну, естественно. Не думаешь же ты, что я…
— Думаю. Именно это я и думаю. Что ты должен вести себя, как воспитанный человек.
Я не сердился на нее. Я не мог сердиться на нее!
— Если таково воспитание, думаю, мне лучше остаться диким.
— Ты хочешь сказать, — в ее голосе сквозило удивление, — нет, ты действительно хочешь сказать, что и впредь собираешься вести себя подобным образом?
Должно быть дедушка Бэкмэйкер был упрямый человек; тому порукой то, что, по словам матери, от Ходжинсов во мне ничего нет.
— Тирза, что ты подумаешь обо мне, если я откажусь от своего единственного по-настоящему доброго и понимающего друга — за всю жизнь единственного! — только потому, что у миссис Смит представления о приличиях расходятся с моими?
— Я подумаю, что ты наконец начал что-то понимать.
— Прости, Тирза.
— Знаешь, Ходж, я предполагала, что так получится. Что ж, значит мы больше не увидимся.
— Если ты только выслушаешь меня…
— То, думаешь, стану таким же придурком, как ты? Не хочу быть ни придурком, ни мученицей. Не собираюсь изменять мир. Я нормальная.
— Тирза…
— Прощай, Ходж.
И пошла прочь.
Нелепо, но мне казалось, если позвать ее — она вернется. Или хотя бы остановится, выслушает. Я не позвал. Энфанден прав, все дело во мне. Есть вещи, от которых я не могу отказаться.
Этого героизма мне хватило минут на пятнадцать. Потом я понесся через парк, через улицу — к дому Смитов. На верхних этажах горел свет, но на цокольном, как всегда, было темно. Я не решился стучать или звонить; ее запрет я помнил крепко. В душе был сумбур; я ходил и ходил взад-вперед по выложенному плитками тротуару, покуда патрульный не начал с подозрением посматривать на меня. Я малодушно ретировался.
Не дожидаясь дня, я принялся писать ей длинное, бессвязное письмо, умоляя позволить мне поговорить с нею, всего лишь поговорить — час, десять минут, минуту. Я обещал законтрактоваться, эмигрировать, разбогатеть каким-то чудом — только бы она выслушала меня. Я вспоминал наши лучшие мгновения, я уверял, что люблю ее, что умру без нее. Исписав этими сантиментами несколько страниц, я начал сначала и написал то же самое. Светало, когда я отправил письмо пневматической почтой.
Усталый и измученный, я был Тиссу в тот день плохим помощником. Даст ли она телеграмму? Или отправит письмо, как я — тогда оно поступит не раньше вечера. Или она зайдет в магазин?
Назавтра я послал еще два письма и пришел вечером на Площадь Бассейна в идиотской надежде найти ее, где находил всегда. Потом я буравил дом Смитов взглядом, будто хотел гипнозом заставить ее выйти. На третий день мои письма вернулись нераспечатанными.
Существует расхожее мнение, что в юности люди быстро забывают свои печали. И правда, уже через несколько недель боль моя притупилась, а еще через несколько — мое сердце вновь принадлежало лишь мне. Но то были долгие недели.
С Энфанденом мы больше не говорили о Тирзе. Должно быть он почувствовал, что она оставила меня, а возможно, догадался даже, что это как-то связано с ним — но он был достаточно тактичен и не упоминал о ней; и я не упоминал. Мне было слишком тяжело.
Не знаю, стал ли я и впрямь взрослее после этой истории, или, испытав и горе, и гнев, я попытался больше не поддаваться легкомысленным увлечениям и оградить себя от новых страданий чем-то по-настоящему для себя интересным — так или иначе, есть тут связь или нет, но именно с этого момента я решил сосредоточить свое книгоглотание на работах по истории. С некоторой робостью я сказал об этом Энфандену.
— История? Ну, конечно, Ходж. Благородное занятие. Только вот что это такое — история? Как ее пишут? Как ее читают? Это — бесстрастная хроника событий, доподлинно установленных и последовательно изложенных в полном соответствии с их сравнительной важностью? Но разве такое возможно? Или это превращение обыденного в прославленное? Или хитроумное передергивание, которое вдруг дает более точную картину, нежели аккуратное копирование?
— Мне кажется, что факты первичны, а интерпретации возникают позднее,
— ответил я. — Только после того, как мы смогли обнаружить факт, мы можем сформулировать свое мнение о нем.
— Возможно, возможно. Но возьмем, к примеру, факт, который для меня является главным фактом всей истории, — он указал на распятие. — Для меня, как для католика, этот факт ясен: я верую в то, что гласят Евангелия. Сын Человеческий умер на кресте ради моего спасения. А каковы были факты для тогдашнего римского чиновника? Никому не известный проповедник из захолустья поставил под угрозу стабильность в провинции, где и без того непросто, и был незамедлительно казнен в назидание другим официально принятым в Римской империи способом. А для наших современников здесь? Такого человека вообще не было. Вы думаете, эти факты исключают друг друга? Но вы ведь знаете, нет двух людей, которые один и тот же предмет видели бы одинаково; очень многие честные свидетели противоречат друг другу. Даже Евангелия приходится согласовывать.
— По-вашему выходит, истина относительна.
— Будто бы? Значит, мне нужно точнее выражаться. Или точнее думать. Я ведь не хотел сказать ничего подобного. Истина абсолютна, во веки веков. Но один человек не может охватить ее всю, целиком; при всем желании он в состоянии увидеть лишь один какой-то ее аспект. Поэтому я говорю вам, Ходж: сомневайтесь. Всегда сомневайтесь.
— Всегда? — Мне показалось, это предостережение не очень-то согласуется с только что провозглашенным им символом веры. Он понял сразу.
— Для верующего сомнение насущно необходимо. Как иначе он сможет отличить ложных богов от истинных? Только сомневаясь и в тех, и в других. Одна из наиболее распространенных поговорок гласит: не верь глазам своим. Почему вы должны верить своим глазам? Глаза даны вам, чтобы видеть ими, а не чтобы верить им. Верьте своему разуму, своей интуиции, своему здравому смыслу, своим чувствам, если угодно — но глазам, не вооруженным всеми этими интерпретаторами, не верьте. Ваши глаза могут увидеть мираж или галлюцинацию так же ясно, как и то, что существует на самом деле. Ваши глаза скажут вам, что не существует ничего, кроме материи…
— Это говорят не только мои глаза, но и мой босс.
— Что такое?!
— При всем своем дружелюбии Энфанден был живым человеком; когда его прервали на полуслове, это не понравилось ему, как не понравилось бы кому угодно. Но его раздражение было мимолетным, и через мгновение он уже внимательно слушал мой рассказ о механистическом мировоззрении Тисса.
— Прости, Господи его душу, — пробормотал он наконец. — Бедняга. Уйти от веры — и впасть в суеверие, столь жалкое, что ни одному христианину не под силу даже вообразить… Вы только представьте себе, — он начал расхаживать по комнате, — время идет по кругу, человек есть автомат, мы обречены повторять одни и те же действия снова и снова, вечно… Говорю вам, Ходж, это чудовищно, бедный, бедный.
Я кивнул.
— Да, но где ответ? Бесконечное пространство? Бесконечное время? Они ужасают почти также, потому что непостижимы и слишком и слишком величественны.
— Но почему непостижимое и величественное должно ужасать? Разве ничтожное человеческое понимание есть истина последней инстанции? Хотя это, конечно, не ответ. Вот ответ: время, пространство, материя — все это иллюзия. Все — кроме Бога. Нет ничего реального, кроме Него. Мы — Его каприз, плод Его воображения.