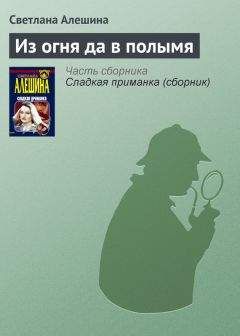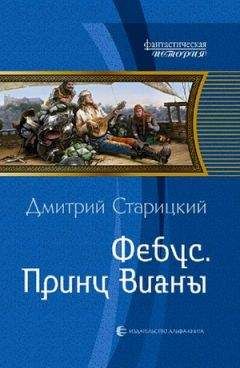Дмитрий Старицкий - Принц Вианы
Микал, появившийся на наши глаза с известием, что бочка готова и горячей воды запасено достаточно, оборвал этот странный флирт прямо на взлете. Ну и слава богу.
Отмокал в бочке я долго, все равно одежды мои унесли стирать.
Баня местная оказалась похожей на японскую, только совсем без эстетизации, принятой в Стране восходящего солнца. В помещении рядом с кухней в большую сорокаведерную бочку поставили скамеечку и все покрыли полотном, чтобы мое высочество попку себе не занозило. Туда набулькали горячей воды деревянными ведрами, разбавили холодной до приемлемой температуры, и — извольте принимать водные процедуры.
Первый кайф от процесса я ощутил, отмокая от лесной грязи, да и вообще от всего накопленного до меня этим телом, — в это время в этом месте католицизм отрицательно относился к телесной чистоте. Это вам не Русь с ее культом бани. И даже не Византия, бани которой сейчас называют турецкими. Сейчас — это в двадцать первом веке. Вот я уже и во временах путаться стал. Симптом, однако.
Потом заметил, что пропали Микал и моя одежда.
Появившийся раб сказал, что одежда моя в стирке, зато он нашел тут настоящую морскую губку и сейчас ей меня ототрет, если я, конечно, не боюсь, что через отмытые поры в меня проникнут все возможные болезни. И раздевшись до пояса, стал работать банщиком. Ошейник, как оказалось, на нем был. Замшевый. С наполовину стертым беарнским тавром — два быка, идущие влево, оглядывающиеся, один над другим.
Эх, сейчас бы гель для душа или хотя бы примитивное хозяйственное мыло… Но и так было неплохо. Особенно когда кухонные мужики стали приносить новые порции кипятка.
Вымыть мне волосы пришла толстая грудастая баба в неопределенном возрасте, принеся с собой большой глиняный горшок с настоем ромашки.
Сняла под присмотром Микала с меня повязки и сказала:
— Можно.
И мои волосы неторопливо умастили каким-то маслом. Судя по запаху — ореховым. Помассировали голову. Смыли водой с ромашкой. Потом еще раз — только ромашкой. И лишь затем, используя десяток деревянных гребней с разной толщиной зубьев, она осторожно и ласково расчесала мои длинные волосы. И ушла с поклоном, явно довольная своей работой.
— Догони ее, дай серебряную монету, — приказал я Микалу, когда за этой бабой закрылась дверь. — А то обо мне черт-те что подумают. Нам это надо?
— Не чертыхайтесь, сир! — с укоризной крикнул Микал уже из дверей. — Грех это.
Вернулся он с большими простынями, одной из которых вытер меня почти насухо, а вторую выдал укрыть наготу.
Тут же ввалились в помещение кухонные мужики барона с новой порцией горячей воды, трехногим столиком, креслом, сидром и сыром. Все расставили по-быстрому и убрались с глаз долой.
Микал, раздевшись и добавив горячей воды, с криком наслаждения залез в бочку. В ту же воду, в которой до того мылся я.
— Что, хорошо? — спросил я его.
— Не то слово, сир… как в раю. Эх, banyku бы сюда нормальную. Как в детстве, с паром, с venichkom.
Заедал я сидр сыром и смотрел, как Микал отдирает с себя грязь пучком рваного лыка. Тратить на себя губку он не посмел.
Потом принесли мне одежду. Не мою. Но моего размера. Цветов Неаполитанского королевства.
Белье — тонкого льна короткая рубаха, которую Микал обозвал камизой[93], и нечто вроде трусов-боксеров до середины икр примерно, с гашником на поясе и тесемочной подвязкой над коленом, под названием брэ[94].
Шоссы[95] — чулки тонкого сукна. Одна штанина сине-желтая, разделенная по вертикали, другая — красная. В таких только украинским национал-коммунистам ходить.
Пуфы вислые без наполнения, по цвету синие, в разрезах желтые, а гульфик красный, что меня отдельно развеселило.
Синего цвета, набитый паклей как ватник, с вертикальными швами приталенный жакет на крючках от горла до пупка — ниже короткая баска, но рукава еще привязные, и если их пришить, то назывался бы колет.
На голову — синий бархатный берет на красном околыше. Без перьев. Но крепления для пера есть.
Кое-где сукно побито молью, но если особо не приглядываться, то и не видно. Наверное, это остатки одеяний придворных Рене Доброго, сохраненные бережливым управляющим.
Оторвал от полотна простыни две полосы на портянки. Вбил ноги в сапоги — и одет. Остался только пояс со шпагой и кинжалом.
Тут и Микал из бочки вылез, вытерся простыней, затем облачился в такие же одежды, что и у меня. Разве что вместо берета снова у него длинный красный шаперон с оплечьем, понизу вырезанный треугольниками. И сразу он стал похож на карточного джокера, вызвав у меня этим улыбку.
Опоясался Микал своим ремнем с тесаком. Собрал свою старую одежду и вынес. Вернулся быстро. Глянул на столик и сказал:
— Вы, сир, особо на сыр не напирайте — скоро обедать будем.
— Ты куда свою одежду унес?
— В стирку. Вашу баронские прачки уже постирали — сохнет.
— Ладно, доедай сыр и пошли.
— Я есть не хочу, сир, но если вы приказываете… Вот сидра бы я выпил.
— Пей и рассказывай новости.
Вытерев капли сидра с уголков рта, Микал доложил:
— Вернулся сержант с баронским слугой. Они вроде как барку наняли до Нанта. Отсюда до пристани четверть дня пути пешком. Так что, если вы прикажете, сир, то завтра выдвигаемся.
— А почему я могу не приказать? — поднял я бровь.
— Ну мало ли… — подмигнул он мне. — Чувствуете себя не готовым к дороге. Здоровье не позволяет… Или пока чепчик красный еще не смятый.
И смеется одними глазами.
— А кроме нас никто мыться не будет? — удивился я пустоте помещения.
— Кому было крайне необходимо омыть ту или иную часть тела, те уже обошлись ведром у конской поилки, — совершенно серьезно Микал мне это выдает. — Но большинство, особенно франки из Фуа, слишком суеверны: боятся от мытья заболеть. А инфант омылся еще с утра, до завтрака.
— Попил? Пошли, — дал я команду.
Вместо обычной мессы патер Дени (Денис, если по-русски, хотя по-французски Дениз — это женское имя) служил сегодня благодарственный молебен об избавлении нас от напастей. В общем, «да воскреснет Бог, и расточатся врази Его».
И не прерываясь, «вторым отделением концерта» отбарабанил молебен о плавающих и путешествующих. О нас, сирых, значит.
Не пойти на такое мероприятие я не мог, хотя не очень-то и хотелось. Я ведь даже не атеист, скорее — агностик[96]. Но отрываться от коллектива в церковных мероприятиях Средневековья — это будет похлеще, чем манкировать партсобраниями в советское время, в период сталинизма.
Пошел — и не пожалел.
Боже, какой великий актер пропал в этом старом и плюгавом провинциальном священнике. Какой голос! Мощный, красивый, богатый обертонами баритон, заполняющий все пространство пристроенной к стене восьмиугольной капеллы с хорошей акустикой. Голос проникал во все углы и, отразившись там, возвращался и уязвлял, как казалось, самую душу.
Некоторые прихожанки обливались слезами умиления, и чувствовалось, что это им привычно.
С таким патером верилось, что Бог есть и что он нас любит. И что Бог есть сама Любовь. Душа стремилась вырваться из тлена своей оболочки и публично очиститься покаянием. Но это для меня было бы извращенным способом самоубийства. Внедрившись в тело юного принца, мне оставалось только всю оставшуюся жизнь лгать на исповеди. Для окружающих меня людей внедриться в человека может только бес. Даже Жанну д'Арк в этом веке сожгли, а у девушки всего лишь были слуховые галлюцинации.
А театр одного актера все продолжался, и хотелось неистово бисировать, кричать «браво!» и не отпускать со сцены маэстро без комплимента. Но всему приходит конец, особенно прекрасному.
Откровенно говоря, я до дрожи боялся исповеди именно у этого священника. Но патер всех нас причастил плоскими пресными облатками без нее. Попустил как плавающим и путешествующим.
После довольно скучного, но обильного обеда, все еще находясь под впечатлением мессы, прогуливаясь по двору замка, неожиданно столкнулся с Иолантой.
Я сделал учтивый поклон и спросил:
— Дамуазель, не удовлетворите ли вы мое любопытство?
В ответ она сделала реверанс и кивнула головой, поощрительно похлопав ресницами.
— Почему вы носите одежду вилланки, а не платье, приличествующее дочери барона?
— Ваше высочество, вы когда-нибудь носили железный корсет, который на ребрах так стягивают шнурами, что невозможно дышать?
И не дождавшись ответа, продолжила:
— А мне приходится хлопотать тут по хозяйству, потому что дедушка везде не успевает на своей деревяшке. Вот и представьте меня на хозяйственном дворе в корсете и юбках на обручах. Много ли я успею? Сразу скажу: гораздо меньше, чем дедушка на протезе. К тому же других благородных дам тут нет — некому меня за мое поведение осудить. Я полностью удовлетворила ваше любопытство, ваше высочество?