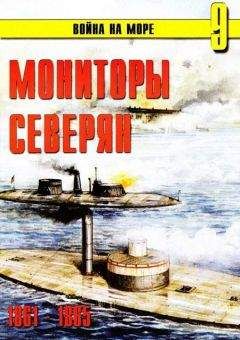Татьяна Вяземская - Зовите меня Роксолана. Пленница Великолепного века
– Здравствуй. – Сулейман наконец-то обратил на нее внимание. – Хочешь фруктов?
Она кивнула. Не хотела ничего, но фрукты давали возможность занять руки.
Он показал головой в сторону вазы, стоящей на низком столике.
– Угощайся.
Она подошла и взяла что-то – то, что первое попалось в руки.
– Садись.
Она села.
Он еще разок прошелся туда-сюда, кажется, тоже не имея представления, о чем с ней говорить. Потом подошел к ложу и уселся на пол, на толстый пушистый ковер, сам, судя по выражению лица, удивляясь своему поступку.
– Как ты живешь?
– Хорошо.
Он усмехнулся:
– Ты так странно это сказала…
– Птице хорошо в клетке?
– Если ее кормят и заботятся о ней…
– Ну, меня кормят.
Разговор получался странный, и оба замолчали, чувствуя неловкость.
– Я ждал письма от тебя.
Кажется, это признание далось ему нелегко.
Анастасия почувствовала, как горячая волна побежала вниз по позвоночнику.
– Я тогда еще плохо умела писать на турецком.
Брови султана взлетели вверх.
– Теперь умеешь?
Она кивнула.
– А что еще умеешь?
Она дернула плечом. «Я еще и на машинке вышивать умею».
– Ты просила разрешения посещать библиотеку. Тебе не чинили препятствий? Нет? И что ты читала?
– Низами.
– Что?!
– Поэзию Низами.
– Ты читаешь на персидском?!
Если бы у него было столько свободного времени и не было возможности использовать его по своему усмотрению – он бы тоже выучил… да хоть китайский.
Но Сулейман, видимо, не поверил.
– Прочти что-нибудь.
– Кто бабочкой к яркому пламени льнет – На войско огня в одиночку пойдет; Пусть миг проживет лишь, огонь полюбя, Отдав оболочку – полюбит себя.
Она прочла первое, что пришло в голову, а потом вдруг испугалась. О себе ты, Анастасия, о себе стихи выбрала! Полюбишь огонь, который тебя сожжет… или – уже полюбила? Не думать, не думать об этом! А интересно, что он прочтет ей в ответ. У Низами красивые стихи… У Низами много стихов о любви, и Сулейман вполне может прочесть свое любимое стихотворение – ведь все знают, что он увлекается поэзией. И вовсе не обязательно это стихотворение будет относиться к тебе…
Но Сулейман произнес совсем не то, о чем она думала.
– А у меня сыновья умерли. Трое.
И закрыл глаза, как закрывает подстреленная птица.
Тогда Анастасия протянула руку и очень осторожно погладила его по голове.
Не открывая глаз, он накрыл ее руку своей ладонью. Она почувствовала мозоли. Мозоли? У султана? Ах да, он ведь шашкой машет… или как там это называется? Ятаган? Нет, ятаган – это у янычар… Господи, о чем она снова думает?
С другой стороны – странно, что она еще сохранила способность думать… хоть о чем-то…
В этот момент ее губ коснулись губы Сулеймана, и способность мыслить пропала окончательно.
– Хюррем. Моя Хюррем… – Теперь Сулейман гладил ее по голове.
Почему – Хюррем? Она ведь не смеялась… Ах да, Хюррем – не только «смеющаяся» или «радующаяся», это еще и «приносящая радость». Об этом она совсем забыла…
Ну что же, она и в самом деле хотела бы приносить ему радость… долго… всегда, если только такое возможно…
Она подумала об этом и поняла, что в этот момент Анастасия умерла. На свет появилась Хюррем.
С этой мыслью она умостилась поудобнее, уткнулась носом в плечо Сулеймана и заснула.
Глава 11
Она ночевала с султаном уже две недели подряд. Оставалась в комнате до утра, утром ее с поклоном провожал кизляр-агаси. Доводил до ее комнаты, улыбался непонятно, уходил.
Гарем гудел.
– Никогда у него не спали женщины! – в первый же день сообщила Гюлесен. – После… ну, ты понимаешь, после чего, – она стыдливо хихикнула, – женщин всегда выпроваживали. И со мной так было.
Хотелось бы верить, что это так, только – откуда Гюлесен знать про всех? Спросить она бы не рискнула – чтобы никто, не дай бог, не догадался, насколько для нее важен ответ. К счастью, ответ интересовал не только ее.
– А откуда ты знаешь, что со всеми? – К разговору подключилась еще одна девушка, из новеньких – имени ее Хюррем пока не знала.
– О, я тут все знаю!
Хотелось бы, конечно, верить, но Гюлесен была склонна к преувеличениям. Не врала – сама верила в то, что знает «все на свете». Но, к сожалению, верить было нельзя. Хотя и очень хотелось.
– Не верите?! – Гюлесен почему-то завелась, лицо пошло пятнами. – Я знаю, что говорю! Мне… мне один человек сказал, который знает! – И покраснела, став совершенно багровой.
– Кто? Ну?
Новенькая была воплощенное любопытство; а Гюлесен, кажется, надо было спасать. Видно же, что не хочет рассказывать. Может, еще какую-то глупость сделала, а ведь ее один раз уже пороли.
– А кстати, что тебе-то самой султан подарил?
– О, он сделал мне несколько подарков! – Гюлесен расцвела. – Серьги, и браслет, и пояс, и…
Она что-то еще говорила, но Хюррем уже не слушала. Главное она сделала – отвлекла внимание девчонки, та на некоторое время забыла о своем вопросе. Если еще когда вспомнит – Гюлесен уже как-нибудь сама выкрутится.
А вот правду ли она сказала, что до Хюррем никто не проводил всю ночь у султана, – она разберется позже. Хотя – дожить бы до этого «позже»…
Почему ее это так беспокоит? У него были жены, официальные, если так можно сказать, три жены, четверо сыновей и, как говорится в «Песне песней», – «девиц без числа». Так какая разница, спал кто-то в его постели или выметался прочь сразу после секса?
В конце концов, Махидевран он любил по-настоящему – об этом говорил весь гарем, да и по поведению «любимой жены» это было видно: чтобы почувствовать себя такой «владычицей морской», нужно было иметь для этого какие-то основания…
А она, Хюррем, что? Игрушка на пару дней? Приятный собеседник (а Сулейману, похоже, и в самом деле нравится с ней разговаривать), с которым заодно можно и сексом заняться? Кто?!
Она с ужасом ждала наступления месячных. Здесь это вообще было проблемой – для нее, привыкшей к прокладкам: все эти тряпки, с которыми ни сесть, ни лечь нормально, и – самый главный ужас! – тяжелый запах в комнате, ведь по какой-то причине почти у всех девушек в их комнате месячные проходили практически одновременно.
Начнутся месячные, к султану ее позовут – она не сможет, он позовет кого-то другого, а потом забудет о ней вообще. Власть? Да какая, к чертям собачьим, власть! Представить себе, что кто-то – какая-то мясистая корова или тощая змеюка! – лежит с ним в одной постели и он гладит ее по волосам…
Да придушить хочется! Причем – все равно кого.
Конечно же, месячные начались. Тогда, когда им и было положено.
И конечно, кизляр-агаси вечером позвал ее к султану. Она пыталась объяснить, но чернокожий, до сих пор относившийся к ней вроде доброжелательно, почему-то стал вести себя по отношению к ней несколько по-другому. Сейчас он попросту сделал вид, что не слышит.
Она шла и отчаянно трусила. Что она скажет? Восточный мужчина, на дворе – начало шестнадцатого века… Да кизляр-агаси специально ее подставляет! И Хюррем знала, откуда «ноги растут»: султанская матушка постаралась. Валиде Хафса Айше. Кизляр-агаси подчиняется именно ей, к тому же, говорят, он и предан султанской матери по-настоящему, не как подчиненный – как… а как кто, собственно? Как собака? Вряд ли, у него хорошо развито чувство собственного достоинства. Тогда как кто? Ладно, с этим разберемся позднее.
Итак, почему против нее настроена валиде?
Не понравилось, что рядом с сыном появилась новая фаворитка? Да какая ей разница-то? Гюльфем, Гюльбахар, потом – Хюррем, после нее вполне может появиться еще кто-то. Какое дело до этого матери?
Помнится, в настоящей истории настоящей Роксоланы валиде почувствовала, что рыжая девчушка с Украины сможет урвать у нее значительный кусок власти – потому и беспокоилась, потому и плела против нее интриги. Но это было не сразу, уже после рождения первого ребенка, а то и еще позже. А что толку интриговать против теперешней Хюррем? Она пока что никто и звать ее никак.
Впрочем – может быть, как в том анекдоте: «Ну не нравишься ты мне!»? Хотя вроде бы валиде в тот раз приняла ее не враждебно.
Может быть, это просто испытание? Валиде хочет посмотреть, как сопливая девчонка выкрутится из этого положения? Она бы и сама предпочла посмотреть, а не поучаствовать. Но вот не вышло…
И перед самой дверью султанской опочивальни Хюррем пообещала себе: больше с ней такого не повторится. Больше ничего она не станет делать помимо своей воли. Хватит!
Вошла к султану решительная, а скорее, даже сердитая. И, даже не стремясь подбирать слова (гори ты огнем, шестнадцатый век!), объяснила ему ситуацию.
Выражение лица у Сулеймана стало таким, что она не выдержала – расхохоталась. Это, скорее, была истерика, чем настоящий смех, но, хохоча, она чувствовала, что теряет агрессивность, страх, униженность.