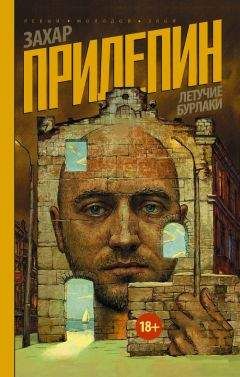Обитель - Прилепин Захар
Допрос длился почти час, и казалось, что два чекиста, скорей всего неплохо знакомых Гале, не знают, как закончить это дело. С одной стороны, какая-то дурная, путаная история, с другой – бывшая подруга Эйхманиса: про это тут все были осведомлены.
Быть может, в своё время эти чекисты на Галину походку заглядывались, теперь же вот так всё обернулось.
Артёма спрашивали мало – за что осуждён, как попал в Секирский изолятор, что помнит из гимназической программы по географии и естественным наукам, обладает ли техническими навыками, – но вообще у него возникло чувство, что в понимании чекистов Галя взяла его с собой вроде собаки – а какой с псины спрос?
Всё происходило в том же кабинете ИСО, где допрашивали Артёма в прошлый раз. На подоконнике всё так же стояла полная пепельница окурков. Вряд ли она осталась там с отъезда комиссии – но Артёму почему-то нравилось думать, что тут никто не решится выкинуть окурки столичных гостей: а вдруг вернутся.
Галя выглядела раздраженной, постаревшей, обрюзгшей – неопрятная, немолодая женщина. Но вела себя не без достоинства: комиссия уехала – кто теперь её убьёт, кто тронет. Ничего с ней не станется: так вот себя вела.
Артём изредка смотрел на Галю и думал, что едва ли он мог быть с ней, это какая-то блажь, какой-то бред… а если даже и был в бреду, то и тогда была она не женой ему и не сестрой, а так… прохожей.
Галя на Артёма не смотрела вообще. И правильно делала: с чего ей разглядывать его.
– …Да я слышал, понял, – морщился молодой чекист, глядя то на Галю, то на своего напарника, и никогда на Артёма. – Ты мне одно объясни, отчего ты поехала с лагерником, который ничего особенного, как мы поняли, не знает ни о флоре, ни о фауне…
– Он работал в лисьем заповеднике. Он работал с Эйхманисом. У меня были причины ему доверять. Я не могла взять кого попало, – твердила Галя, глядя в маленькое окно, где неуютно снежило в тусклом предзимнем солнце.
Похоже, её раздражало, что к ней обращаются на “ты”.
На столе у задающего вопросы чекиста были разложены Галины бумаги, карта, которой она пользовалась, со сделанными её рукою пометками, тетради, изъятые у иностранцев.
– Сложно избавиться от подозрения, что вы хотели убежать… – помолчав, сказал чекист, подняв от карты глаза.
Больше всего ему хотелось, чтоб его подозрения сама Галя и развеяла.
– Бестолковый вы всё-таки, – сказала Галя тихо. – Обнаружили шпионов – задержали их, привезли в лагерь. Если б мы бежали – зачем бы мы их сюда повезли? Дальше бы убежали! Да позвоните вы Эйхманису, наконец! Он всё скажет обо мне.
Пропустив предложение позвонить Эйхманису, чекист покачался на стуле и сказал:
– Это ещё надо посмотреть, какие они шпионы.
– Вот и посмотрите, – морщась как от мигрени, отвечала Галина. – И прекратите тратить моё время на эти… беседы. Меня уже допрашивала комиссия. У вас есть основания подозревать их в некачественной работе? Или в чрезмерном гуманизме?
Чекисты переглянулись. Один из них ухмыльнулся. Другой скривился.
В соседней секретарской комнате раздался шум: кто-то, скорей всего секретарь, резко поднялся с места – загрохотал стул, хором вздрогнули предметы на столе.
К ним вошёл начальник лагеря Ногтев. Взгляд его был тяжёл и в глазах – как песка насыпали: мутно, зыбко.
Артёма он просто не увидел.
– Чего тут несёт эта тварь? – ни к кому лично не обращаясь, спросил Ногтев, подойдя к столу, подняв какую-то бумагу и тут же бросив её.
Два человека ответили одновременно: сама Галя и один из чекистов.
– Стоит на своём: составляла карты, ссылается на Эйхманиса, – поспешно сказал чекист, привставая с места.
– Я боец Красной армии, – медленно сказала Галя.
Ногтев дрогнул челюстью.
– Три года этой суке, – сказал он, не глядя на Галю и уже выходя; потом что-то вспомнил и, остановившись в дверях, чуть даже повеселев, добавил: – У Бурцева в бумагах есть донесение леопарда, что она путалась с заключённым… Прямо на крыше! С тобой? – и перевёл глаза, полные зыбучего песка, на Артёма.
Оказывается, он всё-таки его видел.
– Нет, – сказал Артём, чувствуя, как на него валится огромная соловецкая стена, и спасенья нет. Он никогда не слышал у себя такого голоса – это был голос человека, который имеет право всего на одно слово; но и это слово ничего уже не меняет.
– Кому тут какая разница, – засмеялся Ногтев, показывая на удивление белые и очень крепкие зубы, – тебе всё равно подыхать, шакал.
– Что за кошмар тут у вас. Я Фёдору напишу. Что происходит? – сказала Галя, поднимаясь.
Каждая фраза, произносимая ей, надрывалась и падала.
“Она спрашивает только о себе…” – понимал Артём: о нём уже не шло речи.
Хотя его ещё не объявили неживым. О нём ещё не сказали ничего.
– Три года ей “за самовольную отлучку”, – повторил Ногтев, не глядя на Галю. – Пусть радуется, что мы не разбираемся в её блядках, а то нарыли бы… – и вышел.
Дверь ударилась о косяк и со скрипом отошла, оставшись полуоткрытой.
Медленно подошёл секретарь – все зачем-то слушали эти шаги – и накрепко прикрыл дверь. Наверное, это было его постоянной рабочей обязанностью.
Галя без сил опустилась на стул и сидела, закусив губу: она не верила.
Молодые чекисты снова переглянулись: что значил их перегляд, Артём не мог догадаться.
– Вы все будете за это наказаны, понимаете? – еле слышно спросила Галя, как будто у неё вмиг пропал голос.
– Административная коллегия лагеря сама имеет право выносить приговоры, Галина. Вы же знаете, – не глядя ей в глаза, сказал сидевший за столом чекист. Пока она была ему почти ровня – он был с ней на “ты”. Стремительный перевод сотрудницы лагеря в число заключённых как бы приподнял её для чекиста… Или, точней, отдалил от него.
– Ногтев отдал неправомерный приказ, сюда приедет комиссия, и ему опять ничего не будет, а вас зароют на Секирке, – набрав воздуха, сказала Галя, и к Секирке голос её вернулся и почти зазвенел.
Стоявший и до сих пор не бравший слова чекист долгим взглядом посмотрел на Галину и ответил бесстрастно и веско:
– Тут не надо никого пугать. А то первая доедешь до Секирки.
Галя вдруг посмотрела на Артёма: беззащитно, по-женски, открыто: это было так неожиданно. “Неужели правда?” – говорил её взгляд.
– А с этим чего? – кивнув на Артёма, спросил сидевший за столом чекист.
Артём почувствовал, что кровь закружилась в его голове – так же нелепо и порывисто, как снег за окном, только горячо, горячо.
Второй чекист, совсем немного помедлив, решил:
– Сказали: ей три года, – вот и ему три года накинем.
Он с удовольствием прикурил папиросу. На подоконнике были их окурки.
Всё в лице Артёма стало мелким: маленькие глаза, никогда не смотрящие прямо, тонкие губы, не торопящиеся улыбаться. Мимика безличностная, стёртая. Не очень больной, не очень здоровый человек.
У него появилась странная привычка никогда не показывать своего голого тела: шею, грудь, руки – руки всегда в карманах либо, если работает, в старых варежках.
Зубы тоже не показывает.
Слова, произносимые им, – редкие, куцые, как бы их фантики, – ни одно ничего не весит, ни за какое слово не поймаешь: дунет ветер, и нет этого слова.
Лучше вообще без слов.
Всякое движение быстрое, но незаметное, ни к одному предмету или действию прямого отношения не имеющее: вроде, скажем, ест – но вот уже и не ест, и вообще не сидит, где сидел. Вроде подшивается – но нет уже в руках иголки и нитки, и сам пропал, как будто его потянули за нитку и распустили.
Жестикуляции нет.
Всегда немного небритый, но не так, чтоб в бороде. Всегда немного немытый, но не так, чтоб привлечь запахом, – запаха нет.
Он готов своровать, а при иных обстоятельствах отнять еду – но при виде еды никогда не выкажет своего к ней отношения.
Если б гулящая жёнка предложила ему стать к ней в очередь – он бы мог согласиться, но в любую другую минуту не испытывает к женщинам ничего и не смотрит на проход женской роты.