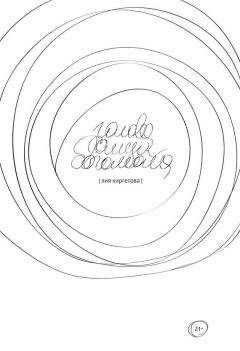Трудовые будни барышни-попаданки 3 (СИ) - Дэвлин Джейд
— Франц Павлович, могу вас заверить: весь предыдущий месяц после приезда в Москву и в трудах в Военном госпитале Пичугин делал все, чтобы расстаться с прежней репутацией. Он объяснил мне, с каким трудом сумел добиться перевода в столичное военно-медицинское учреждение, и не намерен, как говорят русские, «пропить» этот успех. И по его словам, «не брал в рот ни капли».
— Иван Генрихович, почему же этот, как говорят, самородок в первый день попросил выдать на складе четверть спирта с таким странным обоснованием, что интендант выдал, лишь чтобы посмотреть на такое использование?
— Франц Павлович, не знаю, как интендант, а я регулярно наблюдаю Пичугина. Он и вправду погружает в спирт медицинские инструменты, а также протирает руки, когда осматривает больных и делает самые простые операции.
— Странная прихоть, свойственная человеку, внезапно отказавшемуся от алкоголизма. Быть может, он заменил вино опиумными вытяжками или другими средствами возбуждения мозга.
— Этого я не знаю, Франц Павлович. Известно мне, что в двух палатах, которые Пичугин курирует, смертность снизилась на треть. Сам не верил, пока не взял журналы, подсчитал. Так и есть.
— Откуда же эти революционные новации, Иван Генрихович?
— Лекарь Пичугин и не скрывает. Не так давно за чашкой чая — да, он и вправду решил забыть спиртное — он рассказал мне удивительную историю о том, как этим летом в Нижегородской губернии осуществил небывалую операцию по требованию некоей мелкопоместной дворянки госпожи Эмилии Шторм, вдовы гвардейского капитана. Она сама произвела эфирные пары, чтобы погрузить в сон своего мужика с воспалением в животе. Операция прошла успешно, и вдова подарила Пичугину это средство. Как сказал лекарь, они продолжают переписываться, и госпожа Шторм предлагает проекты удивительных машин, способных облегчить стирку госпитального белья.
— Удивительно, Франц Павлович… Впрочем, неудивительно. Судя по фамилии, это дочь германской нации, продолжившая научные изыскания своего покойного супруга. Так вы считаете возможным дозволить эту операцию?
— Да. И непременно буду ее зрителем, а для надежности — ассистентом, несмотря на разницу в чинах. Если она окажется неудачной, вина будет на лекаре, а в случае удачи я подготовлю статью для «Лейпцигского медицинского курьера».
— Федька, так это ты генеральшу огорчил?
— А что делать было, Тит Аполлоныч? Ежели бы ее высокоблагородие до полудня пожаловать соизволили бы, я бы, конечно, только им отрез продал. Кто же подумать мог, что они припоздниться изволят, а асессорша в наш магазин пораньше зайдет?
— Я же последний отрез отложить велел до знатного покупателя. Знатного, а не асессорши. Еще бы секретарше продал!
— Так я, Тит Аполлоныч, на полку положил, бязью прикрыл, а краешек высунулся. Асессорша и углядела. Говорит: что за новинка такая яркая? Как тут не показать? А она — восхищаться, будто засидевшаяся девка жениха углядела. Вцепилась, как кошка в мышь, разве не шипит на меня. Встряхнула, осмотрела, сама скатывать пустилась. Только спросила, откуда да сколько стоит? Я говорю: «Из Парижу», да еще выше вашей цены десятку накинул, думал — не станет брать. Куда там! Кошель открыла, на прилавок выложила. Я обрадовался, что доход принес заведению. Кто же знал, что генеральша пожалует и захочет ткань зеленую на платье.
— Кто же знал, кто же знал! Федюшенька, ты же купецкий приказчик! В нашем деле ума мало — сметка нужна. Асессорши, капитанши, секретарши к нам кажный день ходят. А генеральша, про невиданную зеленую ткань прознавшая, хорошо, если раз в год заглянет. Продали бы отрез, какой она на Кузнецком Мосту день искала и не нашла, так привадили бы к магазину. Небось увидала платье из такой ткани на другой генеральше, уснуть не может, пока такой не сошьет.
— Тит Аполлоныч, я обещал ей, что, как только у нас новая зеленая ткань появится, сразу мальчишку отправим к ней на дом.
— Обещал он… Из Макарьева погоревшего эта ткань, а там откуда взялась — не дознаться. Не бывать тебе, Федька, купцом, до седины в приказчиках проходишь.
— Ты погодь, Тит Аполлоныч, погодь горевать да зарекаться. Зеленой холстины генеральша не дождалась, а вот лиловую повидала. Перехватил я тот кусок у Милохина, как муха промеж пальцев шмыгнул и всю штуку ткани увел! Генеральша как увидела тот набивной шелк лилового колеру, так едва оземь возле прилавка не грянулась! Ажно ручки в перчатках затряслись. Да и хитрее — тут, говорю, сударыня, едва ли образец, на душегрею не хватит. А вот ежели пожелаете… достану вам этой ткани хоть двадцать аршин и голову дам на отсечение — ни у кого в Москве такого шелку нет! И платья такого не будет, особливо если на Сихлершу-портниху не поскупитесь. Все ж таки французинка лучше наших-то с таким дорогим матерьялом обойдется!
— Ну, Федька! А чего ж молчал да не с того начал? Что за манера у тебя крутить да блукать! Дам по затылку, да и вся недолга…
— За что ж по затылку-то, Тит Аполлоныч? За генеральшу, которая завтра прибудет с дочками, коим тоже чего на платья к зимнему сезону присмотрит? И вся в надежде, что я таки урву для нее невиданную заграничную диковину. Обещался живота не пожалеть, коли барыня благосклонность явит. А лиловый-то шелк в кладовой лежит, дожидается.
— Ну, шельма! Ну, Федька!
— Александр Николаевич, а почему в наших застройных планах мы постоянно упускаем участок на Большой Никитской? Здесь могло бы разместиться не меньше трех доходных домов на красной линии. Хозяин явно не желает его застраивать, почему же не желает продать?
— Не оспариваю ваших соображений, но есть затруднение. Данный участок не имеет полновластного собственника, с которым можно было бы начать договоры о приобретении. Это, как вы знаете, любезный Сергей Степанович, разные несгоревшие пожитки несут на Сухаревку и продают, не спрашивая, кто хозяин. С землей так не выйдет. Хозяин, граф Безсонов, помер в позапрошлом году, а наследники не объявились. Как будет известен новый владелец, сразу будет можно обратиться к нему и предложить участок уступить.
— Хоть самим его искать!
— Так поищите, Сергей Степанович. Объявления в газетах дайте для начала.
— Шабуры, шивар Рябыка.
— Тишись, Кудлаш. Место наше, вокруг мазы, можно не шистать, а просто речь вести.
— Здравствуй, друг Рябыка. Давно на Москве?
— Да с Воздвиженья. Не был давно, решил друзей навестить. Ну и долги собрать.
— Не боишься? Тут полиции как мошкары.
— У меня теперь такие тугаменты, что ни одна полицейская рожа не подкопается.
— Как же ты такими тугаментами обзавелся?
— Одну барыньку два раза продал. Первый раз за денежки да тугаменты, второй раз — просто за червонное злато. Вот только теперь соображаю: не продешевил ли? Уж потом выяснил — барынька-то сама богатая. Бог троицу любит — если еще мне попадется, поймаю ее и продам ей самой.
— В поместье за ней поедешь?
— Зачем, Кудлаш? Барыньки, сам знаешь, к зиме из поместий сами в Москву едут. Эта вдовая, заступы у ей — мышь да шиш. Чего б не поживиться.
Глава 17
— Твой-то Алексейка — дурак-дурак, а с характером. Не сказал о предложении, которое ему сделал этот нижегородский винный жук?
Миша отошел от окна. Он приехал поздно вечером, усталый, пропыленный, такой родной и знакомый… как я могла его не узнать, голова садовая?
— Предложение, от которого невозможно отказаться? Не говорил. — Я пожала плечами и налила в чашку свежего чая для мужа.
Мы переглянулись с мгновенными улыбками. Такое вот удовольствие — перебрасываться книжно-киношными цитатами.
— Предложил дать полиции показания на тебя: мол, барыня нарочно велела продавать по трактирам, мимо казенного завода. Обещался за это предательство выправить паспорт и отпустить на все четыре стороны со всей выручкой в кармане. Твой-то умник уперся, не соглашался. Тут я и подоспел.