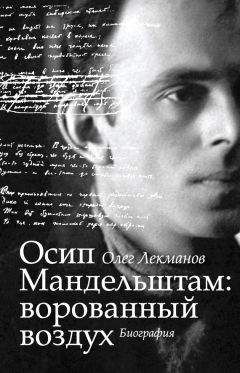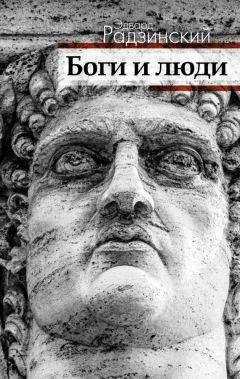Олег Радзинский - Агафонкин и Время
Ящерица повернулась к Агафонкину мордочкой с глазами-бусинками и нетерпеливо ударила по подушке длинным хвостом. Открыла сшитый узкий рот, из него посыпался светло-желтый песок. Агафонкин смотрел, как песок быстро покрыл белую подушку и стал ссыпаться на темное одеяло. Агафонкину захотелось спать. Песок продолжал сыпаться, берясь неизвестно откуда, словно в маленькой, размером с ладонь ящерице скрывалась Сахара.
Агафонкина сковало оцепенение. Его зрение сузилось, будто он смотрел через трубу и мог видеть лишь отдельные участки комнаты – сквозь туннель. И стол, и комод, и даже подоконник – были засыпаны песком, что прибывал и прибывал. Ящерица же, не уменьшаясь, сидела на подушке, время от времени хлестко шлепая по ней длинным хвостом. Оранжево-красно-черный хвост был подшит тканью кофейного цвета.
Агафонкин взглянул вниз: он стоял по щиколотку в светло-желтом песке. Вокруг, сколько мог охватить его туннельный взгляд, лежала пустыня. Пустыня была ровно-желтой, с наплывами барханов на горизонте. Барханы качались, переливаясь в дымке зноя.
Агафонкину стало очень холодно. Он попытался пошевелиться и не смог, словно был туго спеленат. В глаза заплывала темнота, и темнота эта шла от черных бусинок-глаз ящерицы: бусинки сковали Агафонкина, не давая дышать. Он не мог отвернуться, продолжая глядеть в эти черные точки, и затем бусинки-глаза втянули Агафонкина в себя, словно он был крошечной фигуркой, а вовсе не высоким – метр восемьдесят семь – мужчиной тридцати одного года.
Агафонкин понял, что попал внутрь ящерицы. Он неожиданно успокоился и огляделся. Внутри было так же светло, как и снаружи, та же пустыня, лишь у дальних барханов вырос город, куда вела утоптанная пешая дорога. Агафонкин знал – ему нужно туда. Он стряхнул оцепенение и пошел к городской стене, за которой выглядывали, стремясь в синее чистое небо плоские срезанные верхушки башен-зиккуратов.
Он знал: этот город – Москва.
Агафонкин дошел до открытых ворот и остановился. У высоких каменных стен шумел базар – с южным говором, восточным товаром и русскими бабами в черных платках. Торговали сладкий, мягкий, влажный от спелости золотистый урюк и рассыпчатую печеную крупную картошку; горячий, уложенный стопками круглый лаваш и овальные караваи серого хлеба; шипело покрывавшееся ровной корочкой мясо на мангалах и сильным похмельным духом тянуло от бочек с квашеной капустой и солеными огурцами. Никто не обращал на Агафонкина внимания, словно не видели, словно он здесь и не здесь и просто смотрит кино на натянутом во весь мир экране.
Агафонкин захотел пить. Он заметил торговца водой: тот – в светлом бурнусе с накинутым на голову капюшоном – стоял чуть поодаль, рядом с маленьким осликом, на котором с двух сторон висели тяжелые кожаные бурдюки. У каждого бурдюка болталась привязанная на веревке железная солдатская кружка.
– Сколько за кружку, уважаемый? – спросил, подойдя, Агафонкин.
Торговец поднял голову. На Агафонкина взглянули черные глаза-бусинки, пришитые к желтоватой коже.
– Здравствуй, урус, – сказал Мансур. – Вот я тебя и поймал.
– Мансур? – спросил Агафонкин. – Ты? – Он подумал: “Ты – ящерица?”
– Ты глуп, урус, – покачал головой Мансур. – Конечно, я – ящерица. И ты – ящерица. Ведь мы с тобой находимся внутри ящерицы, стало быть, мы – ее часть.
Агафонкин решил не спорить, хотя мысленно отметил ошибку в силлогизме: он был хорошо тренирован Матвеем Никаноровичем в анализе высказываний по методу формальной логики.
– Чего хочешь, Мансур? – миролюбиво поинтересовался Агафонкин. – Опять галлюцинации создаешь? Успел принять с утра и гипнозом пугаешь? Весь сопьешься так.
– Не оскорбляй меня, урус, – сказал Мансур. – Это не галлюцинация. Это – мечта.
Агафонкин осмотрелся: базар со странной смесью восточных и русских товаров, каменные зубчатые стены с башнями, Москва с зиккуратами вместо куполов. Он заметил, что предметы не откидывали теней, и взглянул на небо. Там, строго вертикально над их головами, словно подвешенные на леске, горели два солнца – красное и черное.
– Где мы, Мансур? – спросил Агафонкин.
– В Евразии, – произнес Мансур с гордостью. – В моей мечте.
Агафонкин кивнул, удивляясь: Мансур никогда не говорил о евразийском пути России как своей мечте. Стоило послушать.
– Но это же Москва? – решил уточнить Агафонкин. – Чувствую, что Москва, но отчего все в песке?
– Ты слеп, урус. – Мансур покачал головой. – Посмотри вокруг.
Пустыни больше не было. Земля покрылась мелкой буро-желтой колючей травой, и у горизонта, где раньше покатым миражом переливались барханы, тянулась полоса зеленых лесов. Агафонкин повернулся в сторону, откуда он пришел по песчаной дороге: вместо утоптанного тракта к городским стенам легла, блестя под лучами двух солнц, неширокая река с глинистыми берегами, поросшими ивняком и другим тонким кустарником. Было слышно, как заливисто, искренне радуются лягушки.
– Евразия, – продолжал Мансур, – это ощущение континента. Европа – это ощущение моря, а мы, наследники тюрок и монголов, мы – континентальный суперэтнос, сформированный евразийским ландшафтом – степью, лесом, рекой. Это и определяет наш, евразийский способ бытия как единого суперэтноса.
– Ага, – согласился Агафонкин. – Лев Николаевич Гумилев, “От Руси к России”, часть первая.
Жажда вернулась и начала звенеть в голове – то ли от перспективы евразийского суперэтноса, то ли от жара двух солнц высоко в ярко-синем небе.
Он взглянул Мансуру в глаза; темные угли – два мохнатых шмеля. Шмели загудели, зашипели и сузились до черных точек-бусинок, нашитых на желтую кожу. Агафонкин чувствовал, что бусинки-глаза вбирают его в себя, и – безо всякого перехода – осознал, что смотрит в бусинки-глаза матерчатой набитой песком ящерицы, сидящей на подушке в комнате Мансура. Он не мог повернуть голову, чтобы оглядеться вокруг – пропал ли евразийский город Москва, пропала ли лесостепная мечта Мансура: зрение снова сделалось туннельным, словно Агафонкин смотрел в подзорную трубу. Ящерица улыбнулась Агафонкину зашитым узким ртом и ударила по подушке хвостом. Агафонкин моргнул и проснулся.
Он не сразу понял, где находился. Агафонкин приоткрыл глаза и по привычным контурам предметов, скрытых полутьмой, узнал – он был у себя в комнате, в Квартире. Агафонкин потянулся и проснулся окончательно.
“Странный сон”, – вспомнил свое путешествие в мансуровскую мечту Агафонкин.
Он сел на кровати и понял, что спал одетым. На нем был легкий светлый костюм, выданный Митьком по случаю Тропы в Киев-7июля1934-го. И тут Агафонкина ошарашило: как он вернулся? Последнее, что он помнил, было Событие МоскваСтромынка9-11ноября1956года. Катя Никольская. Ах, Катерина Аркадиевна, кто б подумал. Очень.
Агафонкин улыбнулся воспоминаниям и встал. И тут же, по легкости в левом кармане, по тому, как ловко, влитую облегал его пиджак, понял: юла пропала.
“Потерял, потерял”, – думал Агафонкин, ползая под кроватью, шаря в слежавшейся пыли под тумбочкой, проверяя под комодом.
в 56-м оставил растяпа нужно быстрее обратно отыскать юлу говорил же митек тысячу раз предупреждал после выемки сразу домой доигрался
Было ясно, что делать: ехать на работу, в ДВС, прикоснуться к полоумной старушке Катерине Аркадиевне – и ведь не помнит его не узнает – перенестись в ее квартиру номер 53 дома 9 по улице Стромынка, оказавшись там 11 ноября 1956 года в 13 часов 14 минут, забрать юлу – и обратно. Делов-то.
“Нужно посмотреть на календарь”, – решил Агафонкин. Он должен был знать число, чтобы правильно выбрать Тропу обратно.
Число оказалось 28-м декабря 2013 года. Агафонкин взял ключи от Квартиры, лежавшие на столе, и пошел в переднюю. Он надел теплую кожаную куртку – не замерзнуть в продуваемом насквозь летнем костюме, пока доберется до Шоссе Энтузиастов, оглянулся на пустую тишь темного коридора и закрыл за собой дверь.
Двор встретил Агафонкина желтыми прямоугольниками окон – люди вставали жить в новом дне. В отличие от Агафонкина они жили только в этом одном дне, оторванные своим сейчас и от прошедшего, и от грядущего. Люди не знали, что никогда не умрут, и что Событие их смерти уже совершилось и продолжает совершаться где-то на пунктире их Линии Событий. Они не знали, что событие смерти не отменяет этого утра с его предрассветной суетой, яичницей-глазуньей и бутербродом с колбасой. Там умерли, а здесь продолжают заваривать чай и искать чистые носки. И так навсегда. “Бедные, – пожалел их Агафонкин, – они и не знают, что бессмертны, и продолжают жить в каждом из Событий всегда”.
Впрочем, он быстро о них забыл.
На стене у арки, ведущей из чистого от снега двора на пока пустынную улицу, Агафонкина встретила надпись черной краской. Кто-то вывел неровные крупные буквы: