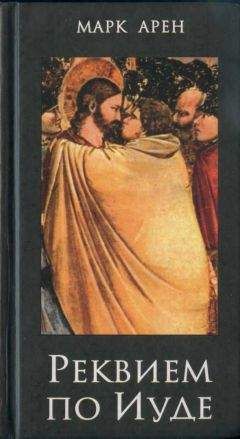Телепортация (СИ) - Арен Марк
Андрей Петрович вздохнул:
– Можно. Только тут такая кутерьма начнется… И потом – газеты… оно вам надо?
Арефьев только крякнул, чувствуя, как лоб покрывается бисеринками пота. Только этого ему недоставало. Он ведь сразу, как только пушку эту увидел, понял – жди неприятностей…
– Тут вот еще что… – Андрей Петрович специально выдержал паузу. – Случаи такие, конечно, редкие. Можно сказать, уникальные. Но что их всех объединяет, так это крайне нестабильное состояние психики.
– Ты ж говорил, он вроде не буйный, – удивленно посмотрел на него Виктор Григорьевич.
– Я и сейчас говорю, что не буйный. Пока. Но через какое-то время – когда неделя, когда месяц, обязательно победит человеческая природа. Его сознание, то, что было с ним от рождения, побеждает и находит его. И тогда человек возвращается, становится самим собой. Но процесс этот болезненный, сложный…
– Неделя, говоришь? – раздраженно перебил его Виктор Григорьевич. – И что ты прикажешь мне делать?
Андрей Петрович пожал плечами, мол, ваша проблема, вам и решать, и спокойно, не прося и даже не предлагая, а так, будто бы само сорвалось, сказал:
– Я бы, конечно, мог за ним приглядеть… памятуя ваше постоянное ко мне доброе расположение…
– Да?! – вскинув брови, посмотрел на него Виктор Григорьевич.
– А чего, – пожал плечами Андрей Петрович, – живу я одиноко, дел особенных у меня нет. И потом, мне это самому интересно. Как-никак я ведь в прошлом психиатр…
Виктор Григорьевич задумчиво барабанил пальцами по толстому стеклу, что лежало у него на столе.
А что, с каждой секундой это предложение ему нравилось все больше и больше. Очень даже… Как говорится: с глаз долой и из сердца вон… Протокол, запись в журнале – это решаемо. Личному составу можно сказать, что поймали они сыночка посла, малость перебравшего и поехавшего на теме театра, припугнуть международным скандалом, сами, как посоленные забегают: все заменят так, что комар носа не подточит. Как раз и Ступицыну будет повод втык сделать, давно искал, в профилактических целях.
Он вдруг поймал себя на мысли, что внутренне он уже согласился с предложением Андрея Петровича и даже был ему за это благодарен.
Ведь и в самом-то деле, а как иначе? У себя этого психа держать не годится и сдать его по инстанции тоже не вариант.
То, что предложил Петрович… тоже, в общем-то, было неидеальным. Но это был выход из непростой ситуации.
– Я одного не пойму, – прищурился по-начальственному Арефьев, хотя решение уже принял, – ты-то чего к нему так прикипел? В чем он, твой интерес?
– Да ни в чем, – пожал плечами Андрей Петрович, – просто похожи мы с ним. Оба мы потерялись – он во времени, а я в пространстве.
– Ох, мудришь ты, Петрович, мудришь, смотри, перемудришь, потом век не расхлебаешь, – покачал головой Арефьев и, властно хлопнув ладонью по столу, сказал:
– Ладно, решим, что с ним делать. Решим. Дежурный! – и углубился в свои бумаги.
В кабинет на крик тут же вошел дежурный. Поняв, что разговор закончен, Андрей Петрович встал и направился к двери. Но когда он уже выходил из комнаты, Арефьев, не поднимая головы, сказал:
– Да, вот еще что, ты там поаккуратнее со своими бомжами и лишний раз не лезь в бутылку. Я тебя, в случае чего, конечно, опять схороню, но тебе здесь не эта, как ее, Ницца.
– Спасибо, – сказал Андрей Петрович и вышел за дверь.
А Арефьев, тяжело вздохнув, закрыл папочку с табличкой «Отчетность», а вместе с ней реальную возможность занять кабинет намного круче…
Глава третья
Новые времена
Проспект был рядом, но сюда доносились лишь слабые его отзвуки. Всего в трех минутах ходьбы была улица, забитая рычащими авто, где тяжело и важно отваливают от остановок троллейбусы, вереща спецсигналами пробивают себе путь чиновничьи машины, и люди ручейками впадают в магазины и станции метро.
А здесь дороги свободны. Проскочит на перекрестке машина, и снова слышно тишину. В скверике на лавочке сидят дамы с колясками. Старушка в выцветшем плащике, с нейлоновой хозяйственной сумкой ковыляет к продуктовому магазину. Он хоть и в квартале, зато там простокваша дешевле и батоны свежей. Ничего, ей не к спеху, куда ей торопиться, разве что на тот свет…
Через дворы и переулки, совсем рядом с одной из оживленных столичных улиц, поздним майским утром шествовали двое. Виду оба бродяжного, неказистого. Тот, что чуть повыше, бородатый, с выпуклым сократовским лбом и поблескивающей лысиной. Второй – в засаленной зеленой бейсболке с надписью Kentucky. Смуглый, наверное, цыган или спустился с гор Кавказских. А может, и с пальмы, ведь кого только нет сегодня в столице…
…Окружающая действительность разодрала в клочья его уверенность, что все это розыгрыш. Не успела за ними захлопнуться казематная дверь, как мир, в котором он жил, в мгновенье ока разрушился. Увиденное было настолько неожиданным и непонятным, что ввергло его в неописуемый шок. Впрочем, мы, писатели, для того и спущены на землю, чтобы описывать, и желательно очень талантливо, все, в том числе шок. Итак, с первых секунд, как он очутился на воле, от всего былого остались одни лишь развалины. Только теперь он со всей очевидностью понял, как многое значит все то, что мы знаем, но в силу этого же знания перестаем замечать. Точнее, перестаем замечать, что замечаем. Вот, к примеру, проехал извозчик, ну и ладно. Казалось бы, извозчик себе и извозчик. Ан, нет! Оказывается, милостивые государи, что как раз этот-то извозчик, его видавший виды экипаж и даже хромоногая кляча и есть то, из чего в виде венецианской мозаики складывается наше с вами восприятие жизни, а значит, и сама жизнь. Желаете точнее? Извольте. Что для нас мир? Это то, что мы воспринимаем. Причем каждый по-своему, кто во что горазд. А значит, и миров должно быть превеликое множество, ровно столько, сколько живет на свете людей. Но раз многие люди одинаковы, одинаков и мир, в котором они живут. И лишь непохожие люди видят и чувствуют все по-иному, так и живут. Одни считают таких людей гениями, другие – что они из дома скорби…
Какое-то время он шел молча, подавленный происшествием и не в силах сосредоточиться, как же быть дальше. Так бывает тогда, когда мы теряем кого-то из очень близких людей и первое время не мыслим, как после этого жить. Но проходит немного времени, и мы вновь начинаем смеяться, возвращается присущий нам аппетит не только к пище, но и к жизни вообще. Так и теперь не терпящая пустоты природа стала помалу заполнять его окружающим миром. Он впитывался в него, как в губку вода, через звуки, запахи, слова, выдавливая из него вопросы. Массу вопросов…
Он задавал их и порою, не дождавшись ответа, спрашивал о чем-то ином, что казалось ему более значимым и необычным…
Андрей Петрович отвечал неутомимо и лаконично. В его голосе раз от разу проскальзывала ирония, необидная, бывшая, похоже, неотъемлемой частью характера, словно мозоль на указательном пальце пишущего человека. Но ответы все были понятны и все по существу.
Но многое, очень многое оставалось непонятным; несмотря на толковые пояснения Андрея Петровича, сознание соглашалось вмещать в себя далеко не все. Поэтому понятия типа «спутниковой тарелки» или «стеклопакета» оставались для него лишь картинкой с названием.
Он чувствовал, что дышавший льдом в затылок, молотивший кровью в висок вопрос «что дальше?» отступал, будто оттаивал под яркими лучами. Новый мир, представший в рассказах Андрея Петровича карандашным наброском, обретал цвет и объем, становясь полноценной картиной. Пусть знакомство началось не самым авантажным манером, с кутузки. Пусть он одет как сущее пугало; то, что выдали ему взамен его платья, было ношеным и грязным и совершенно бестолковым. При каждом шаге оно терло и жало в местах самых необычных. Пусть и живот от голоду урчал совершенно неприлично. Пусть.
Он потихоньку стал ощущать себя настоящим первооткрывателем, куда там Магеллану с Колумбом! Серая тоска и сомнения, накатившие на него в околотке, теперь растворились без остатка. Нынче он испытывал то чувство, которого ему так не хватало там, в лесу… Ощущение чего-то нового, яркого, настоящего.