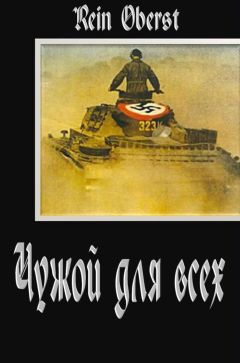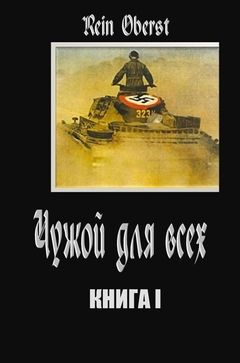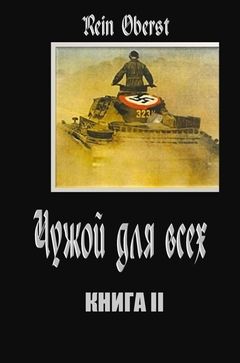Rein Oberst - Чужой для всех
"А почему бы и нет. Если все сложится благополучно, то какая козырная карта может быть в его руках. Ею будет бит этот выскочка фельдмаршал Модель. К нам подтянут танковые, артиллерийские дивизии и еще посмотрим, чья сторона возьмет", — генерал прикрыл глаза. Ему представились новые победы и новые награды Фюрера. "Этого мальчика я, пожалуй, поддержу. То, что он обратился ко мне, а не напрямую по подчиненности в штаб армии Харпе – это правильно. Только я смогу понять его порыв и оценить по достоинству его командирские возможности. Тем более, что Йозеф дал мне указание провести силовую разведку с использованием его резерва. Командир 20-й дивизии генерал танковых войск фон Кессель возражать не будет. Одно только «но»… — Вейдлинг настороженно посмотрел на Франца:
— Почему в рейд должен идти именно ты, Франц? А не, как положено, командир взвода или роты. Что я скажу твоим родителям, если…
— Если я не вернусь, дядя Гельмут? Я правильно вас понял?
— Да, Франц.
— А что вы говорите тем солдатским матерям, чьи дети уже лежат или будут положены еще на этой славянской земле?
— Но это разные вещи.
— Нет, господин генерал, смерть сына для любой матери – это невозвратная потеря и огромное горе. Я такой же солдат, как и другие. И свой долг я выполню до конца. С нами будет Бог!
— Хорошо, Франц, — генерал Вейдлинг тяжело вздохнул. — Быть всегда впереди! Эту почетную участь ты выбрал сам. Ангелы охраняли тебя до сих пор, а ведь ты побывал в разных мясорубках. Надеюсь, под их крылом ты будешь и сейчас. Я даю свое согласие на проведение операции. Как мы ее назовем, мой мальчик? — брови генерала сдвинулись, и глубокая морщина разрубила его мясистый лоб надвое.
— Операция «Glaube», господин генерал.
— Почему «Glaube»?
— Вера в победу, мой генерал. Вера в высшие силы. Вера в доблестных солдат Фюрера. И, наконец, вера в себя!
— Хорошо, Франц, утверждаю. Пусть будет операция «Glaube».
Глава 4
В тот тревожный воскресный день вдова Акулина, мать пятерых детей, пропалывала усердно грядки. В этом ей помогала Вера, старшая дочь. Она только что закончила десять классов с золотой медалью и решала для себя, в какой институт поступать. Мать уже знала о намерениях дочери, была не согласна с ней, но серьезно поговорить о будущем все было некогда. Здесь же на грядках им никто не мешал. Появилось, наконец, самое подходящее время раскрыться душой.
— Так ты что, Вера, решила в артистки податься? — выдергивая с трудом укрепившийся корень пырея, обратилась Акулина к дочери. Та уже готовилась к разговору, ждала его, поэтому ответила без промедления.
— Да, мама, в артистки. Поеду поступать в Щукинское училище в Москву. Ты же знаешь, мне всегда нравилось выступать в школьных спектаклях. На районных смотрах мы получали грамоты. В общем, буду пробовать.
— Дочушка, не поступишь ты! Куда нам до столицы. Поезжай лучше к Мише в Витебск в педагогический институт. Будете там друг другу помогать. Глядишь, в учителя выбьешься. У тебя же с языками хорошо. Вот и будешь немецкому детей обучать. Куда нам в артистки? Подумай лучше!
— Нет, мама. Я так решила! — Вера недовольно тряхнула головой и поднялась с грядки. Волосы цвета спелой ржи покатились волнами по ее загорелым красивым плечам. Широко открытые небесного цвета глаза выражали одновременно и детский протест и мольбу.
— Пожалуйста, отпусти меня. Я очень тебя прошу.
От услышанных слов дочери Акулина приостановила работу. Ее рука на мгновение зависла над лебедой. Затем она нервно вырвала сорняк с корнем и, бросив его в межу, сердито обронила:
— Вот упрямая дочушка. Вся в отца. Что мне с тобой делать? — держась за поясницу, она выпрямилась, раздраженно посмотрела на Веру и хотела произнести что-то колкое в ее адрес, но залюбовавшись ярким, непосредственным девичьим порывом и решительностью своей любимицы, только незлобно проворчала: — Ну как тебе отказать? Ты же такая у меня хорошая. Артисткой так артисткой. Иди, пробуй, поступай, коль сердце зовет.
Вера, вспыхнув от радости, прижалась к маме и стала ее целовать: — Спасибо, мамуля! Спасибо, дорогая!
Она понимала, насколько тяжело будет одной матери вести домашнее хозяйство.
— Ладно, ладно, не благодари. Везде нужно трудиться. Продадим вот телка, справим тебе платье и поезжай в свою Москву, — миролюбиво отстранилась та от дочери. — Давай лучше работать. До обеда надо все закончить. Видишь, припекает.
Вера еще раз трогательно обняла и поцеловала мать, а затем игриво расправив затекшую спину, и подав вперед отчетливо вырывавшуюся из ситцевого халатика девичью грудь, весело произнесла:
— Ну чем не Любовь Орлова. А, мама? — после чего театрально выбросила руку вверх и трагикомично воскликнула: — Ромео! Любимый мой! Где же ты? Приди ко мне. Тебя ждет твоя Джульетта. Помоги прополоть мне этот строптивый пырей, — и разразилась настоящим, задорным детским хохотом.
Акулина так же непроизвольно засмеялась от необыкновенно смешного и трогательного облика своей Верочки. И через смех, продолжая рассматривать дочь, как бы в первый раз видя, подумала:
"Почти взрослая Вера стала. Вон как вытянулась. Скоро улетит из родного гнезда. Надо же надумала на артистку выучиться. А что, пусть попробует. Трудно, правда, будет без нее. С Шуры толка мало, ленивая, неповоротливая. Разве что Катя заменит. Вся в меня. За что ни возьмется девочка, все кипит в ее руках. За ней и Клава потянется. Ничего, справлюсь… И все же, какая Верочка красавица. Стройная как березка, похожая на отца", — нахлынувшее вдруг мимолетное воспоминание о муже, Ефиме Семеновиче, который умер от тяжелой болезни, два года назад, оборвало ее смех.
Вера заметила изменения в душе матери и тоже прекратила веселиться. — Ну, что продолжим, мама, — спросила она ее. Акулина Сергеевна вздохнула и перевела разговор на другую тему:
— Я, Вера, сама дополю грядки. А ты сбегай на Гнилушку. Погляди, где остальные дети. С утра за раками ушли, и их еще нет. Не утонули бы. Гони их домой. После обеда сено будем ворочать.
— Акулина! Акулина! Где ты? — вдруг издали раздался истошный женский вопль. Запыхавшаяся раскрасневшаяся соседка, добежала до хорошо сложенного большого дома пятистенки Дедушкиных и прислонилась к его забору.
— Пойди, Вера, узнай, что Абрамиха хочет. По тому, как вдова напряглась, по интонации произнесенных слов и по ее преднамеренному молчанию, было видно, что она недолюбливает ту. — Визжит как зарезанный поросенок. Кураня к ней часом не заскочила на грядки? Пойди, узнай. И сразу на речку за детьми.
— Хорошо, мама.
Вера, осторожно ступая между грядок, вышла во двор, закрыла за собой калитку и легко выбежала на улицу. Увидев, всполошенную соседку, спокойно спросила:
— Что стряслось, тетя Надя?
— Ой, Верочка! Бяда! Немец напал на нас. Война…
Война! Это слово всегда вызывало смятение в людских душах. Кто знал о ней не понаслышке, сразу менялся в лице. Взгляд мужчин становился суровым и мрачным. Женщины начинали рыдать, страшась предстоящего горя. Те, кого застало это слово впервые, получали небывалый адреналин и спешили показать свое ухарство, уходя на призывные пункты. Только дети не понимали надвигавшейся беды и оставались, по-прежнему веселы.
Речь наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова, прозвучавшая в 12 часов дня 22 июня 1941 года по радио о начале войны с фашистской Германией, о ее вероломном нападении разрезала судьбы советских людей надвое. Этот день стал чертой между величайшими страданиями и человеческим счастьем, между жизнью и смертью, между злом и добром, падением и подвигом.
Слово «война» ворвалась в семью Дедушкиных так же неожиданно, как и для всех сельчан поселка Заболотное.
Вначале оно было не осязаемо, не материально, не понято до конца. Но с каждым днем того необыкновенно жаркого лета 41 года сельчане, как и в целом все советские людьми стали отчетливее осознавать степень опасности надвигающейся коричневой чумы и масштабов колоссальных последствий для человеческих судеб.
— Так, девочки, еще, еще чуть подвинули… Шура! Шура! Крепче держи за край, Кате пальцы отдавим. Несем, несем. Еще. Еще. Клава, не зевай. Быстрей открой дверь. Так, передохнули… — Огромный старый дедовский сундук, оббитый по краям железными углами, почти вся женская половина Дедушкиных с трудом дотащила до сарая. Акулина задумала там закопать его и сложить в него все самое ценное из одежды и утвари, подальше от людских глаз, тем более немецких.
— Добро, добро, дети. Отдохнули, принимаемся за работу. Клава, сбегай за водой. Живо. Жарко. Шура, бери лопату, и пойдем со мной, — покрикивала на девочек Акулина.
— А почему я, мама. Пусть Катя копает. Она говорила, что у нее всегда руки чешутся до работы. Возьми, Катька, мою лопату, — Шура хотела передать нехитрое орудие труда средней сестре.