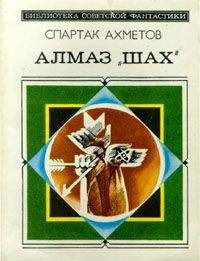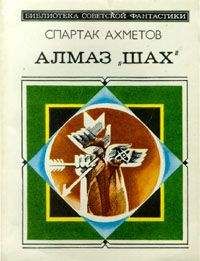Евгений Токтаев - Орлы над пропастью

Обзор книги Евгений Токтаев - Орлы над пропастью
Токтаев Евгений Игоревич
Фракиец 1. Орлы над пропастью
"Он и был фракийцем, и не был им"
Колин МаккалоуПролог
Письмо доставили еще утром и Дион, старый раб-домоправитель, неспешной шаркающей походкой, которой он передвигался последние лет двадцать, отнес свиток в таблиний. Гонец ничего не сказал о важности и срочности послания, поэтому и беспокоить хозяина без нужды домоправитель не стал. Привычки главы семейства всем в этом доме хорошо известны: до полудня отец никогда не появлялся в своем рабочем кабинете, строго соблюдая этот обычай даже сейчас, в конце зимы, когда в горах еще лежал снег и полевых работ не велось. Домочадцы давно привыкли к этому и никто, даже старшие сыновья, которым уже за тридцать, не посмел беспокоить отца любопытством. Каждому овощу — свой срок.
В тот день отец находил тысячу причин, чтобы не появляться дома. Подолгу задержался в кузне, с несвойственной резкостью отчитал Стакира за какую-то не стоящую выеденного яйца мелочь, ругался с поварами на кухне. Всюду ему было не мило, не хорошо, а особенное раздражение почему-то вызвала занавеска, загораживающая вход в таблиний. Старая, выцветшая, давно пора было сменить, не позориться перед нечастыми гостями. Но ведь он лично повесил ее, тридцать лет назад вступив во владение этим кабинетом после смерти своего отца. Повесил, как знак, что он теперь здесь хозяин. Ее стирали, выколачивали пыль, но не меняли. И вот теперь она, словно черта невозвращения, отталкивает его, не позволяя переступить порог таблиния. Сделай это — и мир изменится навсегда, пути назад не будет. Бестолковая тряпка, она воплотила в себе все его страхи, тяжелые думы.
Пытающийся найти себе занятие, старик напоминал тонущего, который цепляется за соломинку. Оттягивал неизбежное, словно уже знал что-то такое, неведомое еще никому в доме и это знание жгло его душу. Будто дата его собственной смерти значилась в том письме. Как глубоко он ошибся бы, предположив, что никто не видит его состояния, не понимает, что происходит. Но нет, он никогда не оскорбит их, своих сыновей, свою жену и даже домашних рабов, неотделимых от членов семьи, отказав им в той проницательности, какой славится сам, какой пропитан каждый закуток немногословного дома.
— Тебе, Квинт, — прозвучало из-за занавески.
Отец не мог знать, что младший сын стоит здесь, в трех шагах, приблизившись совершенно бесшумно, ожидая приглашения войти. Не мог, но знал. Так же как сам Квинт знал, кому адресовано это письмо и что в нем.
Несколько строк на воске, покрывавшем сложенную книжкой деревянную табличку, занимали едва половину одной ее стороны. Письмо не из тех, что годами хранят в семейных архивах, простое короткое послание и нечего тратить ради него папирус.
Квинт пробежал глазами строчки. Да, все так. Они решились. Теперь то же следует сделать ему. Собственно, долго думать тут нечего.
— Я уезжаю, отец. Утром.
Старик кивнул и тяжело, словно на плечах его лежал неподъемный груз, опустился за свой письменный стол.
— Они набрали два легиона, — продолжил Квинт, — Серторий пишет, что хотел бы видеть в рядах трибунов не только мальчишек, избравшихся в прошлом году. Он помнит меня и зовет.
— Он пойдет сам?
— Нет. Легионы возглавит консул.
— Который? Не успеваю следить за ними, — проворчал старик, — месяц назад одни, сейчас уже другие...
— Валерий Флакк.
— Флакк? Он что-то стал понимать в военном деле?
— Ему в помощь придают Гая Фимбрию.
— Мясника? — поднял бровь отец, — ты понимаешь, куда все это идет? Гражданская война!
— Нет, — уверенно ответил Квинт, — мы отправляемся, чтобы предотвратить ее. Консул сместит Суллу.
— Они полагают, что если Флакк открыто не поддерживал Мария, то Сулла ему подчинится. Это заблуждение, сын. Даже больше — это ошибка и она может стать роковой! Ты окажешься в самом пекле, между двух огней: с одной стороны Сулла, с другой Митридат.
— Я должен, отец, — упрямо нагнул голову Квинт.
— Но почему? Что тебе этот Марий?! Он — пепел на ветру!
— Не ради него...
— А ради чего? — раздался голос за спиной.
Квинт обернулся: так и есть, оба тут стоят, старшие братья, близнецы Марк и Луций.
— Ради вас. Прошлая война обошла наш дом чудом, а та, что может начаться, будет еще страшнее.
— Ради нас... Красивые слова, — пробасил Луций.
— Я удержал тебя осенью, — медленно проговорил отец, — едва переборов твое упрямство. Ты так рвался под знамена своего дружка Сертория, а посмотри, чем все закончилось? Марий залил Рим кровью. Дураки плачут о десятке зарезанных консуляров, а сколько перебито простого народа? Кто-нибудь считал? Сотни! Тысячи! Это гражданская война, Квинт, она уже идет, и ты один ее не замечаешь, пытаешься "предотвратить"!
— Серторий не виновен в тех убийствах, — возмутился Квинт.
— Не вали с больной головы на здоровую, — отрезал отец, — этот виновен, тот не виновен...
— Что же мне делать? Сидеть подле тебя, да свиней гонять хворостиной? Кто я такой? Зачем я? Вот они, — Квинт ткнул рукой в сторону близнецов, — твои наследники. А мне куда податься?
— Семь лет назад ты кричал мне тоже самое, — покачал головой отец, — так и не нашел себя?
— Нашел. Марий тоже был безвестным провинциалом, а каких достиг высот!
— И ты хочешь стать вторым Марием? — спросил Марк.
— Не важно, первым, вторым, десятым... Не быть мне скромным землепашцем. Я ступил на путь, с которого не сворачивают.
— Стакирова наука... — отец обхватил виски руками, словно у него раскалывалась голова.
— Нет, — покачал головой Луций, — он всегда был таким. Он выбрал свою судьбу, отец, отпусти его.
— Смог избраться в трибуны, сможешь стать и квестором, — не сдавался старик, с рождения младшего сына состязавшийся с ним в упрямстве.
— Через пять лет. Что мне делать пять лет, когда вокруг рушится мир?
Никто не ответил, повисло тягостное молчание. Старик вздохнул и провел ладонью по лицу. Вздрогнуло пламя свечи на столе. К чему этот разговор? Все решено уже давно. Быть может, еще при рождении малыша. Семь лет разницы с братьями, они так и не стали друзьями. Малыш всегда был... другим.
— Иди, Квинт, поцелуй мать перед сном. А утром уезжай пораньше. Да хранят тебя лары и Юпитер.
Квинт положил письмо на стол и вышел. Близнецы последовали за ним. Старик взял табличку в руки, раскрыл и большим пальцем стер выдавленные в воске буквы. Покалывало сердце.
"Весь дом дней десять выть будет, малыш. Свидимся ли еще?"
Он придвинул к себе и открыл небольшой сундучок. На дне лежало несколько папирусов, каждый накручен на два деревянных валика с утолщениями по краям. Взяв пару свитков, старик выбрал тот, на одном из валиков которого были вырезаны буквы: DCLХVI. Другой вернул на место. В этом сундуке хранились дневники, отец отмечал в них важные события, касающиеся его семьи и всей Римской Республики. Каждый год — один свиток. На нижнем валике слоев десять папируса — записки недавно перечитывались. Старик аккуратно отмотал свиток в конец, достал чернильницу и очиненное гусиное перо. Последняя запись гласила:
"В январские иды умер Гай Марий".
Сейчас середина февраля, месяца очищений. Совсем скоро наступит месяц Марса, Новый год. Уходящий был непростым, много крови увидел Город, когда он начался, еще больше в конце, а в Греции, куда едет малыш, она льется до сих пор.
Квинт снова встал под знамя Орла. Ему исполнилось двадцать пять, и семь из них он провел в армии. Две войны за плечами. Сколько еще будут хранить мальчика боги? Вернется ли?
Старик макнул перо в чернильницу и вывел:
"В канун февральских ид Квинт уехал на войну".
Капля воска медленно сползала по свече.
* * *Ночь. Там, за пределами стен, полная луна заливала землю серебряным светом, но здесь нет окон, чтобы впустить даже тоненький лучик. Десятки масляных светильников на высоких треножниках вокруг стола языками багрового пламени рассекали полумрак, отнимая у него очертания комнаты, не слишком большой, но и не крошечной кельи: дюжина шагов в глубину и чуть меньше в ширину. Большой стол, заваленный свитками, расположился прямо против входа.
Человек за столом, обликом — перс, одетый в длиннорукавную рубаху, украшенную золотистыми вышитыми кольцами, широкие шаровары и мягкие сапоги, держал в руках развернутый папирус, но глаза его не двигались, не пробегали строчку за строчкой. Черные, неподвижные, словно у мертвеца, они смотрели в одну точку, что находилась не на листе, а где-то за ним. Он застыл без движения, словно и не человек вовсе, а раскрашенная статуя.
"В шестнадцатый день антестериона Сулла взял Афины".
Короткая строчка, добавленная пергамским криптием в общий отчет, доставленный сюда, в Синопу, царским скороходом. В отчете масса сведений из разных уголков мира. Таких же, отрывистых, кровоточащих фраз: