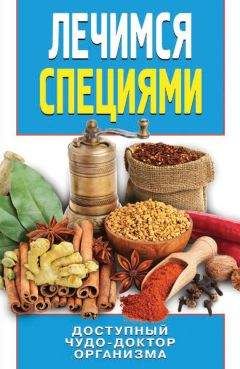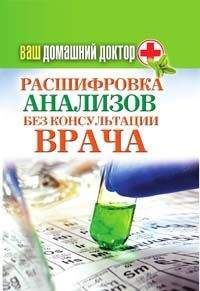Сатпрем - Мать или Новый Вид (Том 2)
Но с того дня я понял, я полностью понял, и я полностью полюбил Мать. Я начал входить в новый мир. И до последнего дня Матери я жил в полной вере, которая была совершенно очевидна, и я обратил все свое отрицание мира в отрицание смерти. Потому что на самом деле я отвергал не мир, я могу видеть это сейчас, я отрицал сам запах смерти в мире, это был мир смерти. Возможно, я единственный из людей или один из двух людей, которые никогда не верили в физическую смерть Матери. И я все еще не верю. Потому что я видел, касался, чувствовал -- только я не знаю, как поведать о том, что я видел. Карта еще не начерчена. Мы будем чертить карту вместе. Возможно, в конце этого мы увидим Мать. Мы не верим в смерть; смерть -- это ложь мира.
Мы развеем миф смерти.
Мы сделаем видимым то, что истинно.
Для тех, кто хочет этого.
Рождение "Адженды"
Я хотел видеть, это было первым моим стремлением, когда я прибыл в Ашрам: по мне, йога была прежде всего неким обучением зрения, которое происходит во время медитации с закрытыми глазами. Я был убежден, что было нечто, что стоило увидеть. Что? На самом деле я не знал. Действительно, я вовсе ничего не знал, я был "добрым малым" с Запада в состоянии бунта, и любой способ изменить мир априори казался мне превосходным: Европа просто душила меня. Но я подразумевал материальное изменение мира. Дух был интересен для меня на уровне двух моих ступней. И таким я и был, получая свое первое и довольно разбивающее обращение из рук Матери: в действительности, я годами оставался потрясенным им. Дважды в неделю она вызывала меня к себе под тем или иным предлогом работы и рассказывала мне. Это началось в 1957. Я принимал свою работу как часть жизненных "обязанностей", но я вовсе не искал или даже хотел привилегии персонально встречаться с Матерью. По мне йога делалась в своей комнате, в одиночестве, а также во время гуляния по улицам в состоянии некоторой жажды. Мать исподтишка смеялась, слушая меня самым серьезным образом, и попутно припоминала тысячу и один случай из ее жизни, из Тлемчена, из ее опытов... что постепенно, почти незаметно разрушало весь мой способ видения мира. Это были ее опыты, тут нечего сказать, это не теория -- с Матерью никогда не было какой-либо теории. А когда она говорила... о, эта чудесная смесь грома и мягкости и смеха, всегда смеха, едва скрываемого поддразнивания, и затем те внезапные вспышки света, которые раскрывали перед тобой грандиозные панорамы: ты оставался погруженным там и начинал вместе с ней видеть вещи. Ты видел, когда она говорила, это как если бы делалась осязаемой сила истины, как если бы приходило живое слово, вибрация, которая заставляла видеть; и всегда, в самые неожиданные моменты, когда она просто смеялась или говорила о некоторых "пустяках", внезапно расширялись ее безмерные алмазные глаза, и ты вступал в нечто иное, это было там конкретно. Это было вне обсуждений: вы же не обсуждаете фонтан. Я выходил оттуда, тряся головой: о, эта Мать!... Я чрезвычайно боялся быть чем-то пойманным, я не хотел быть пойманным, чем бы там ни было -кроме как самим собою, конечно же. Каждый является своей собственной наилучшей ловушкой. И я не очень хорошо понимал, зачем она рассказывала мне все это -- так много потерянных сокровищ, никогда не записанных, я не имел ни малейшего представления о том, что это было начало истории нового мира (*) (* В действительности, поначалу она даже не хотела, чтобы записывали ее слова; потребовалась индейская хитрость и соучастие Павитры, чтобы внести магнитофон: Если мы доберемся до конца, тогда не нужно ничего записывать, - сказала она, - все и так будет самоочевидно; а если мы не дойдем до конца, тогда нет надобности тратить ленты и добавлять еще одну историю о неудавшейся попытке. Так вот.) Это было "интересно", как бы там ни было! И так я ходил туда неделю за неделей, не совсем понимая, до какой степени она раскачивала меня своими тысячами историй, которые казались пустяками: было так, как если бы она медленно формировала во мне другой способ хождения по земле. Мне потребовались все эти годы, чтобы понять, сколь упрямо, болезненно, неослабно мы, человеческие существа, зажаты в тюрьме определенного атавизма. Это тюрьма из стекла, но более прочного, чем бетон, и через нее проходит только один тип лучей -- а мы воображаем, что обладаем всем мировым спектром! Мы видим все через маленький, определенным образом окрашенный луч или, если предпочтем, через бесцветный. Она разрушала мои стены... мягко, потому что любила меня (я не знал почему, также). Она могла разрушить все, за исключением моей маленькой бесконечности наверху; это было неприкасаемо, это было мое большое убежище. Тем не менее, она разрушила и его, после десяти лет осторожного приближения. Я был тогда так крайне ошеломлен, что это стало для меня подобно третьему рождению в мире -- в мире, который больше не был атавистической ложью материального рождения, не был полу-ложью духовного рождения наверху... это было как возрождение в материи, но в странного рода материи, которая не переставала изумлять меня.
Мое первое изумление, или мое первое смятение, пришло раньше, в первые годы, когда она говорила со мной в офисе Павитры, сидя в своем большом кресле с прямой спинкой, которое всегда напоминало мне трон английской королевы. Она обладала атмосферой королевы, эта Мать, и нечто большим. Чувствовалась бесконечная близость и превосхождение со всех сторон; она была здесь со мной, и она была непостижимо удалена на тысячи световых лет, как если бы за Матерью была еще одна Мать, за которой была еще одна Мать; и иногда спадала вуаль, затем другая, и ты представал перед другими глубинами Матери, перед другими, совершенно другими гранями, но все с той же улыбкой и глазами, которые становились черными как смоль или золотыми или ультрамариновыми или лазурно голубыми... и опять же было нечто иное, когда уже не было никаких глаз, а была некая бесконечность, продвигающая безмерность. И всякий раз ты входил в новое измерение: ты уже больше не видел Мать со стороны, как наблюдатель: ты входил в нее. С Матерью никогда не было теорий или даже образов: она заставляла тебя становиться тем, чем была или что видела в тот момент. Всякий раз, когда я возвращался от Матери, это было как возвращение из нового путешествия. Я путешествовал сквозь века, я путешествовал через огромные пространства. Тем не менее, я был ужасно материалистичен, и все же был особым материалистом, потому что никогда не сомневался, что были другие пути видения, отличные от научных, но я был также уверен, что другой путь видения должен быть другим материальным путем видения вещей. Короче говоря, я был материалистом Духа, не зная этого. Например, я был уверен, что "видения" являлись неким материальным сгустком или развуалированием: бог, или кто бы там ни был, действительно входит в комнату. Он может прийти через стену, но он физически здесь. Ну, не так! Однажды Мать сказала западному дикарю, которым я был: Вовсе нет, мой мальчик! Это не физическое. Ты входишь на другой план сознания и видишь глазами того плана. Все обвалилось. Это не физическое, это мистификация. Возможно, всевышняя мистификация, но это нереально, подобно грезе на двух ногах. Я никогда не отказывался от этой своей грезы. Все спиритуалисты посмеются над моим ребячеством -- и верно, это очень по-детски.
Но я был прав.
Я хотел, чтобы это было материальным.
Я хотел, чтобы это было другим способом материи.
Я искал супраментальный мир, не зная этого.
И она медленно меня шлифовала, тогда как я не замечал ничего, кроме того, что эта Мать казалась столь милой, но я был замечательно охраняем ее любовью. Она должна была стать полностью беспомощной, сметенной слабостью и болью мира, чтобы я однажды понял, кем была Мать. И это не она заставила меня понять это: поняло мое тело, поняла моя плоть, поняла, почувствовал, полюбила моя человеческая боль. Заплакала также.
Проходили недели и месяцы, прошло три года, перемежаемых попытками убежать, но я всегда возвращался, как если бы я не мог отрицать или отречься от того, что видел с Матерью, как если бы мои джунгли "где-то там" были бы бегством от себя, возвращением к прошлому земли, а не прыжком в будущее; пока однажды, когда Мать сказала мне, просто так, в середине разговора, как бы невзначай (но это повергло меня в странный, неописуемый маленький шок): Есть нечто, что мы должны сделать вместе.
Это "нечто, что мы должны сделать вместе" росло незаметно: это были сотни и тысячи переживаний, которые Мать назвала своей Аджендой -- более 6000 страниц, 13 томов: хроника будущего -- великий Лес, в который я входил вместе с ей, даже не зная, что это был Лес будущего. Не знаешь, что это лес, не знаешь, что это будущее, но внезапно оказываешься перед одним деревом, затем перед другим, затем еще одним... сотни и тысячи деревьев, растущих друг за другом. И внезапно ты понимаешь: да это же лес! Это лес!
Мы пойдем вместе в этот лес.